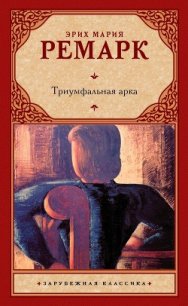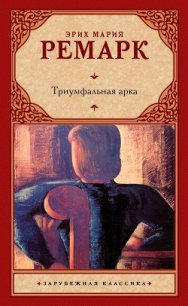Триумфальная арка - Ремарк Эрих Мария (книги бесплатно читать без .txt) 📗
– Спокойной ночи, Жоан.
– Спокойной ночи, Равик.
Он сидел перед рестораном «Фуке», за тем же столиком на тротуаре. Сидел час за часом, зарывшись в тьму прошлого, где мерцал один-единственный слабый огонек – надежда на месть.
Его арестовали в августе 1933 года. Четырнадцать дней он прятал у себя двух своих друзей, которых разыскивало гестапо, а потом помог им бежать. В 1917 году под Биксхооте, во Фландрии, один из них спас ему жизнь, оттащив его под прикрытием пулеметного огня с ничейной земли, где он лежал, медленно истекая кровью. Второй был писатель, еврей, они знали друг друга уже много лет. Равика привели на допрос, хотели узнать, куда бежали оба, какие у них документы и кто будет помогать им в пути. Допрашивал Хааке. Очнувшись от первого обморока, Равик попытался выхватить у Хааке револьвер, пристрелить его, забить насмерть. Он словно ринулся в грохочущую багровую мглу. Бессмысленная попытка – против него было четверо сильных вооруженных мужчин. Три дня подряд обмороки, медленные пробуждения, чудовищная боль… И снова и снова перед ним всплывало холодное, усмехающееся лицо Хааке. Три дня одни и те же вопросы – три дня длятся пытки, и он уже истерзан до того, что почти потерял способность страдать. А потом, на исходе третьего дня, ввели Сибиллу. Она ничего не знала. Ей показали его, чтобы заставить ее говорить. Она была балованным красивым существом, привыкшим к рассеянной, легкой жизни. Он думал, она не выдержит, закричит. Но она выдержала. Она обрушилась на палачей, бросила им в лицо роковые слова. Роковые для нее – она это знала. Хааке перестал улыбаться и прервал допрос. На другой день он объяснил Равику, что с ней произойдет в женском концентрационном лагере, если он не признается во всем. Равик молчал. Тогда Хааке объяснил ему, что с ней произойдет до отправки в концлагерь. Равик ни в чем не признался – признаваться было не в чем. Он пробовал убедить Хааке, что Сибилла не может ничего знать, что он лишь едва знаком с ней, что в его жизни она значила меньше, чем изящная статуэтка, что он никогда бы ей не доверился. Все это была правда. Хааке улыбался. Три дня спустя Сибилла умерла. Повесилась в женском концентрационном лагере. Через день привели одного из беглецов – писателя. Равик смотрел на этот полутруп и не мог узнать даже голоса. Хааке допрашивал его еще целую неделю, пока он не умер. Равика отправили в концентрационный лагерь… Потом… госпиталь… Бегство из госпиталя… Над Триумфальной аркой висела серебряная луна. Фонари вдоль Елисейских Полей качались на ветру. Яркий свет дробился в бокалах… Все это неправдоподобно: эти бокалы, эта луна, эта улица, эта ночь и этот час, овевающий меня, чужой и знакомый, словно он был уже однажды в другой жизни, на другой планете… Они неправдоподобны, эти воспоминания о прошедших, затонувших годах, живых и все же мертвых, воспоминания, фосфоресцирующие в моем мозгу и окаменевшие в словах… Неправдоподобно и то, что неустанно струится во мраке моих жил, с температурой 36, 7, солоноватое на вкус, четыре литра тайны и безостановочного движения – кровь, приливающая к нервным узлам; невидимый пакгауз, именуемый памятью, поместили в ничто, из него всплывает ввысь звезда за звездой, год за годом – то светлый, то кровавый, словно Марс над улицей Берри, а то и совсем тускло мерцающий и весь в пятнах… Вот оно, небо воспоминаний, под которым беспокойная современность творит свои запутанные дела.
Зеленый свет мести. Город, тихо плывущий в ущербном сиянии луны, в гуле автомобильных моторов. Длинные, нескончаемые ряды домов, протянувшиеся вдоль бесконечных улиц; ряд окон, а за ними – целые пачки человеческих судеб… Биение миллионов человеческих сердец, словно беспрерывное биение сердец миллионносильного мотора, медленно, медленно движущегося дорогой жизни, с каждым ударом, миллиметр за миллиметром, приближаясь к смерти.
Он встал. Елисейские Поля были безлюдны. Лишь кое-где на углах попадались одинокие проститутки. Дойдя до Рон Пуэн, он повернул обратно к Триумфальной арке. Он перешагнул цепь ограждения и очутился у могилы Неизвестного солдата. Маленькое голубоватое пламя мерцало в полумраке. Рядом лежал увядший венок. Равик пересек площадь Этуаль и вошел в бистро: именно отсюда, как ему казалось, он впервые увидел Хааке. Несколько шоферов за столиками пили пиво. Он устроился у окна, где сидел в тот раз, и заказал чашку кофе. Улица за окном была пустынна. Шоферы беседовали о Гитлере. Они находили его смешным и пророчили ему скорый конец, если только он посмеет подступиться к линии Мажино.
Равик неотрывно смотрел в окно. Зачем я торчу здесь? – подумал он. С тем же успехом я мог бы сидеть в любом другом месте. Он взглянул на часы. Около трех. Слишком поздно. Хааке – если это был он – в такую пору не станет разгуливать по городу.
На тротуаре показалась проститутка. Она заглянула в окно и пошла дальше. Вернется – встану и уйду, подумал он. Проститутка вернулась. Он не уходил. Если снова вернется, значит, Хааке нет в Париже, тогда непременно уйду, решил он. Проститутка вернулась. Она кивнула ему и прошла мимо. Он продолжал сидеть. Она снова вернулась. Он не уходил.
Кельнер начал убирать помещение. Шоферы расплатились и вышли. Кельнер выключил свет над стойкой. Зал наполнился грязноватым сумраком занимавшегося утра. Равик рассеянно посмотрел вокруг.
– Получите с меня, – сказал он.
Ветер усилился. Похолодало. Облака поднялись выше и поплыли быстрее. Он остановился перед отелем, где жила Жоан. Все окна были темны. Только в одном за портьерой брезжил свет лампы. Это была комната Жоан. Он знал – она не любила возвращаться в темную комнату. Она не выключила свет, потому что сегодня не пойдет к нему. Он снова посмотрел наверх и вдруг показался себе смешным и нелепым. Почему он не захотел с ней встретиться? Сибилла давным-давно исчезла из его памяти, осталось лишь воспоминание о ее смерти.
Ну, а появление Хааке в Париже? Какое это имеет отношение к Жоан? И даже ко мне самому? Не глупец ли я? Гоняюсь за миражом, за тенью страшных, спутавшихся в клубок воспоминаний, попал во власть какого-то темного движения души… Зачем снова рыться в шлаке мертвых лет, оживших благодаря нелепому, проклятому сходству, зачем ворошить прошлое, если опять так больно начинает кровоточить едва залеченная рана? Ведь я ставлю под угрозу все, что воздвиг в себе самом, и единственного человека, который по-настоящему привязан ко мне. Да и стоит ли думать о прошлом? Разве я сам не внушал себе это тысячу раз? И разве иначе я мог бы спастись? Что бы со мной вообще сталось?
Равик почувствовал, как тает свинцовая тяжесть в теле. Он глубоко вздохнул. Ветер резкими порывами проносился вдоль улиц. Он снова посмотрел на освещенное окно. Там был человек, для которого он что-то значит, человек, кому он дорог, человек, чье лицо светлело, когда он приходил, – и все это он едва не принес в жертву бредовой иллюзии, одержимости, нетерпеливо отвергающей все ради призрачной надежды на месть…
Чего он, собственно, хотел? Зачем сопротивлялся? Зачем восставал? Жизнь предлагала себя, а он ее отвергал. И не потому, что ему предлагалось слишком мало, – напротив, слишком много. Неужели нельзя уразуметь это без того, чтобы над головой не пронеслась гроза кровавого прошлого? Он вздрогнул. Сердце, подумал он. Сердце! Как оно готово на все отозваться. Как учащенно бьется оно! Окно, одиноко светящееся в ночи, отсвет другой жизни, неукротимо бросившейся ему навстречу, открытой и доверчивой, раскрывшей и его душу. Пламя вожделения, блуждающие огни нежности, светлые зарницы, вспыхивающие в крови… Все это было знакомо, давно знакомо, настолько, что казалось, сознание никогда больше не захлестнет золотистое смятение любви… И все-таки он стоит ночью перед третьеразрядным отелем, и ему чудится – задымился асфальт, словно с другой стороны земли, сквозь весь земной шар, с голубых Кокосовых островов пробивается тепло тропической весны, оно просачивается через океаны, через коралловые заросли, лаву, мрак, мощно и неодолимо прорывается здесь, в Париже, на жалкой улице Понселе, в ночи, полной мести и прошлого, неся с собой аромат мускуса и мимозы… И вдруг непонятно откуда приходит умиротворение…