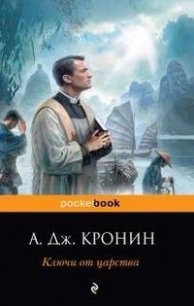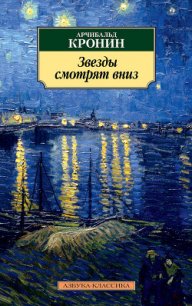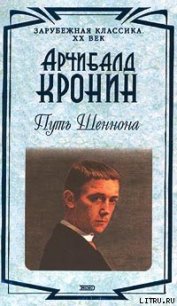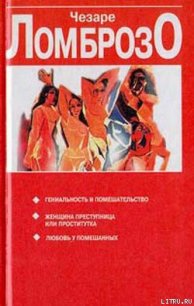Памятник крестоносцу - Кронин Арчибальд Джозеф (книги регистрация онлайн бесплатно TXT) 📗
— Вы не поняли меня. Я люблю Стилуотер… здесь мой дом. И я знаю, как глубоко уважают вас на много миль вокруг. Я говорю о другом… и вы, конечно, понимаете, что я имею в виду, что я считаю своим призванием в жизни.
Настоятель резко откинулся в кресле, затем, словно прозрев, испуганно воззрился на сына.
— Стефен… неужели опять эта дикая идея?
— Да, отец.
И снова звенящая тишина разделила их. Настоятель поднялся с кресла и сначала медленно, затем со все возрастающей стремительностью зашагал по комнате. Наконец усилием волн он взял себя в руки и, подойдя к Стефену, остановился перед ним.
— Милый мой мальчик, — очень серьезно начал он. — Я никогда не пытался воззвать к твоему чувству долга и таким образом привязать тебя к себе. Даже когда ты был совсем маленький и еще не ходил в школу, я предпочитал воздействовать на тебя с помощью естественных чувств любви и уважения. Однако ты должен понять, сколько надежд я возлагал на то, что ты унаследуешь мое место. Стилуотер так много значит для меня… для всех нас. Обстоятельства моей жизни… болезнь твоей матери… злополучное состояние здоровья Дэвида… то, что ты мой старший и (не сердись на меня за это)… — тут голос его слегка дрогнул, — глубоко любимый сын… побудило меня связать все мои надежды с тобой. Однако сейчас я оставляю все это в стороне. Клянусь тебе честью, я думаю прежде всего о тебе, а не о себе, когда говорю (я бы должен сказать — прошу): выбрось из головы твою нелепую мечту. Ты и сам не понимаешь, к чему это тебя приведет. Ты не должен… не можешь пойти по этому пути.
Стефен опустил глаза, чтобы не видеть, как подергивается щека отца.
— Но ведь имею же я право сам устроить свою жизнь. — Сквозь сыновнюю почтительность прорывался скрытый бунт.
— Только не так. Этот путь приведет тебя лишь к гибели. Отказаться от блестящей перспективы, загубить свою карьеру из-за какой-то прихоти — да это же кощунство! И потом Клэр… где, ради всего святого, ее место в такой жизни? Нет, нет. Ты еще слишком зелен для своих лет, Стефен… Эта безумная идея, которая овладела тобой, кажется тебе сейчас бесконечно важной. Но через несколько лет ты будешь сам над собой смеяться и дивиться, как такое вообще могло прийти тебе в голову.
Глубоко-забившись в кресло, раскрасневшийся, не смея поднять глаз, Стефен не мог придумать ни единого слова в ответ — мысли его притупились и стали какими-то ватными после выпитого портвейна. В эту минуту он, без всякого преувеличения, ненавидел отца… и в то же время его терзал стыд за то, что он так ответил на отцовскую привязанность, мучило сознание, что в словах отца была своя правда, и главное — им овладела грусть, теплой волной подымавшаяся откуда-то из глубины души при воспоминании о детстве: о веселых поездках в двуколке, запряженной пони, на вершину Эмбри (отец небрежно опустил поводья, Кэрри сидит в чистеньком белом передничке, а рядом с ней Дэви, впервые надевший короткие штаны из тонкой белой шерсти), о пикниках на Эйвоне (блики жаркого солнца на прохладной воде, и дикая утка вдруг взлетает из желтых камышей, раздвигаемых носом плоскодонки), о пении рождественских гимнов всей семьей вокруг елки, когда окна запорошены снегом… Ох, до чего же нелегко сбросить с себя эти сладостные путы!
Бертрам подошел и не властным, а каким-то трогательно уважительным жестом положил руку на плечо сына.
— Поверь мне, речь идет о твоем счастье, Стефен. Не можешь ты… не сможешь так ожесточить свое сердце, чтобы пойти против меня.
Стефен не смел поднять глаз, боясь, что не сумеет совладать с собой и расплачется. Он был побежден… во всяком случае, сейчас.
А ведь он собирался бороться, ожесточенно бороться и поклялся Глину, что победит.
— Хорошо, — пробормотал он наконец, испив до конца чашу горечи, какую поражение приносит мягким, но страстным натурам. — Если вы так этого хотите… я попробую поехать в Дом благодати… Посмотрим, что из этого получится.
3
Бертрам медленно поднимался наверх. Он испытывал огромное облегчение, но не менее огромным было и внезапно возникшее чувство усталости, а также чувство не покидавшей его тревоги. У двери в спальню жены он остановился, склонив голову набок, прислушался, затем легонько постучал и, инстинктивно призвав на помощь все свое мужество, вошел.
Спальня его жены представляла собой большую комнату, которая в прошлом была верхней гостиной; покойный каноник Десмонд считал ее лучшей комнатой в доме, очевидно из-за правильных пропорций и местоположения, так как окна ее выходили на восток, а потому не только распахивались навстречу утреннему солнцу, но и позволяли любоваться видом на холмы Даунс. Избрав эту комнату в качестве своей спальни и гостиной, жена Бертрама сохранила кое-что из первоначальной обстановки: стулья с мягкими сиденьями, вышитыми крестиком, чиппендейлевскую кушетку, большое полукруглое зеркало в гипсовой раме, висевшее над белым мраморным камином, и красный брюссельский ковер. Заслонившись экраном от сквозняка, Джулия Десмонд лежала в постели под атласным одеялом и читала. Это была хорошо сложенная, прекрасно сохранившаяся сорокапятилетняя женщина с приятным, необычайно беспечным выражением пухлого гладкого лица и густой копной каштановых волос, образовавших на подушке нечто вроде облака.
Отметив бледным ногтем место в книге, на которой был нарисован один из знаков Зодиака, Джулия приподняла тонкие брови и обратила на мужа вопрошающий взгляд. Глаза у нее под мясистыми бледными веками были голубые-голубые, точно незабудки, — такие бывают обычно у младенцев.
— Вот Стефен и снова дома, — сказал настоятель.
— Да… Мне показалось, что милый мальчик неплохо выглядит.
Можно было не сомневаться, что она скажет своим томным, аристократическим тоном нечто прямо противоположное мнению мужа.
— Как голова?
— Благодарю, получше. Я сегодня днем сидела слишком долго на солнце. Это раннее весеннее солнце очень коварно. Но я уже приняла все необходимые меры.
По приспособлению, лежавшему на маленьком столике, он понял, что она только что закончила вибрационный массаж. На выступе камина стоял металлический чайник, из носика которого со свистом вырывалось веселое перышко пара, указывавшее на то, что через четверть часа будет принесен экстракт из отрубей и из него приготовлено снадобье; затем будут раздавлены и проглочены таблетки дрожжей, принята ложка йогурта — или это теперь не йогурт, а сухие морские водоросли? Потом будет заново наполнена горячей водой грелка, подброшены на ночь дрова в камин, притушен свет, намочены кусочки марли и положены на глаза. И снова — хотя, призвав на помощь весь запас христианского долготерпения, он гнал от себя эти мысли — перед ним возник вечный вопрос; зачем он, собственно, женился на ней?
Она была, конечно, красива своеобразной красотой статуэтки — этого нельзя отнять у нее даже сейчас — и, будучи единственной дочерью сэра Генри Марсдена из Хейзелтон-парка, считалась в то время в их графстве «завидной партией». Кто бы мог предположить, глядя на нее, когда она, такая юная, с горделивой осанкой лебедя, принимала, например, гостей в Хейзелтон-парке во время летнего праздника или, улыбающаяся, но сдержанная, окруженная молодыми офицерами из Чарминстерских казарм, вызывала всеобщее восхищение на охотничьем балу, — кто бы мог предположить, что у нее со временем разовьются такие странности или из нее выйдет такая никчемная жена?
Если не считать нескольких летних празднеств, которые они устроили в первые годы своего брака, когда в широкополой шляпе, волоча за собой зонтик в кружевных оборках, она грациозно бродила по лужайкам, Джулия с непоколебимой решимостью отказывалась что-либо делать для прихожан. Господь бог, мило заявляла ока, создал ее не для того, чтобы носить суп бедным поселянам или растрачивать здоровье, корпя над приданым для младенцев, и тем самым поощрять их появление на свет. К счастью, жена епископа полюбила ее, но с женами духовенства рангом ниже Джулия ни за что не желала общаться. Она предпочитала проводить время у окна или в розарии, где просиживала, разодевшись в пух и прах, за бесконечным вышиванием шелками, то и дело отрываясь от этого занятия и подолгу глядя в пространство или вдруг, осененная внезапной мыслью, принимаясь записывать, что надо сказать доктору, к которому, давно разуверившись в местном враче, она ездила два раза в месяц в Лондон. Дети, которых она родила с поразительной легкостью и беспечностью, представляли для нее лишь эпизодический интерес. Она терпела их постольку, поскольку они не вносили неудобств в ее жизнь. Однако ее отрешенность постепенно возрастала, и она все больше замыкалась в себе, в своем особом мире счастливой ипохондрии, сосредоточив все интересы на физических функциях своею организма. И теперь — мог ли он, о боже, предвидеть это, когда в насыщенный ароматом роз день, двадцать лет назад, чуть не умер от блаженства и мучительной сладости ее душистого поцелуя? — теперь ничто в такой мере не интересовало ее, ничто не доставляло ей большего удовольствия, как мило рассуждать с ним о цвете и консистенции своего стула.