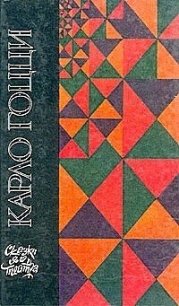Кнут - Зорин Леонид Генрихович (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
На сей раз он выступил с чтением Пушкина. В левом углу небольшой эстрады была установлена репродукция родного тропининского портрета. Раскланиваясь на аплодисменты, Арфеев взглядывал на него, чем ненавязчиво напоминал о тесном духовном родстве с покойником. Когда в заключение были прочитаны стихи, озаглавленные «Из Пиндемонти», исполнитель и вовсе слился с автором. Каждый слушатель сразу же ощутил, что речь тут идет о суверенности не только поэта, но и чтеца. Принимая финальные рукоплескания, Арфеев поклонился портрету, переадресовав их ему. Такое художественное бескорыстие было оценено по достоинству.
Когда несколько дорогих гостей после концерта сошлись в артистической, дружно благодаря за вечер, Арфеев задумчиво проговорил:
— Спасибо. Не знаю, как я прочел его, но знаю, что мы с ним одной группы крови.
Все хором заверили Арфеева, что придерживаются того же мнения. Своеобразная красавица Васина, большая поклонница артиста, сказала, что общность обоих художников видна невооруженным глазом.
Открыли две бутылки шампанского, мгновенно разобрали фужеры и с чувством выпили за преемственность. Арфеев сказал, что многим обязан поддержке своих единомышленников, людей миссионерского склада. Большинство из них нынче здесь, в этой комнате. Должна была быть и Клара Васильевна, но, к сожалению, занемогла. Все они те, кто хранит традицию и помогает ее развитию.
Яков Дьяков, подняв фужер, произнес:
— «Кнут» Подколзина — вот он, наш мост через пропасть.
Это и был поворот реки, возникновение нового русла — фраза, брошенная, казалось бы, вскользь, как нечто само собой разумеющееся, сменила течение разговора, его благодушное журчание. Она придала ему нерв и ритм.
Дьякова приятно порадовало, что «Кнут» вовсе не был белым пятном, еще не открытой территорией. Больше того, к его изумлению, обнаружилось, что почти все присутствующие имеют о нем свое представление. Естественно, острый интерес рождал мистический образ автора.
Прелестная молодая женщина критик Глафира Питербарк спросила Дьякова о причине загадочного упорства Подколзина. Почему он не хочет сделать свой труд общенародным достоянием? Сколько приходится тратить усилий, чтобы на два или три часа добыть единственный экземпляр этой рукописи, или, что вернее, машинописи, блуждающий сейчас по Москве, клясться тому, кто его дал, что имя его сохранится в тайне, как будто все это происходит в былые жандармские времена.
Дьяков оглядел с удовольствием ее раскрасневшееся личико, всю ее ладную фигурку, особенно внимательно — ножки, две перевернутые пирамидки, чуть прикрытые лапидарной юбкой, и с легким вздохом развел руками. Все это непросто понять. Так уж случилось, что он, Яков Дьяков, был рядом в тот роковой момент, когда Подколзину стало известно о просочившемся в мир экземпляре. В каком он был шоке, тягостно вспомнить.
Стоявший поблизости Полякович, господин неопределенного возраста с лицом цвета детского сюрприза, известный циническими суждениями и стойкой склонностью к эпатажу, проговорил с кислой усмешкой:
— Как хотите, во всей этой таинственности есть, все же, некое имиджмейкерство.
С Поляковичем избегали связываться, но Яков Дьяков поднял перчатку. Он посмотрел на нигилиста с негодованием и горечью.
— И это сказано о Подколзине? Ах, Полякович, Полякович… Стыдно вам будет за эти слова. Скорей, чем вам кажется. Искренне жаль вас.
Однако Полякович упорствовал.
— Все же устами юной Глафиры глаголет истина — кто не дает ему взять и опубликовать сочинение? В конце концов, для чего оно пишется?
— Да, в самом деле? — Дьяков оскалился. — А дело в том, что в плохой семье не без урода, вот в чем дело! Всегда-то мы меряем Гулливера нашими лилипутскими мерками. Вечная наша беда и вина. Да, он не хочет печатать «Кнут»! Значит, не пришло еще время. Тому, кто привык беседовать с вечностью, решительно некуда торопиться. Тут все, Полякович, и сложно, и просто, и все зависит от точки обзора! Он всякий день ищет новые смыслы и всякий день себя проверяет. Он потому однажды и выпустил тот злополучный экземпляр из рук своих, что ему захотелось свежего взгляда со стороны. Теперь он кается и клянет себя. Но главное, он — существо нездешнее, не слишком понятное и предсказуемое. Из нескольких обрывочных фраз, почти бессвязных, мне стало ясно, что он испытывает страдание от этой убийственной картинки: книга его лежит на лотке рядом со всей макулатурой.
— Он так сказал? — спросила Глафира в сильном волнении.
— Дал понять, — негромко обронил Яков Дьяков.
Вообще-то говоря, Полякович был не способен по определению согласиться с чьим-либо утверждением, даже самым неоспоримым, воспринимая такое согласие едва ли не как жизненный крах, но тут счел за лучшее промолчать.
Дородный эрудит Порошков, человек благородного образа мыслей, сказал, что сочувствует Подколзину. Люди этого кроя так уязвимы, что иной раз невозможно понять, как они существуют на свете. В сущности, жизнь таких людей — повседневное жертвоприношение. Они приносят себя на заклание для того, чтоб дать выход тому, что в них зреет.
Арфеев был солидарен и с Дьяковым и с благородным Порошковым. По мере сил он хранил молчание, но должен сознаться — не так давно ему удалось познакомиться с рукописью. Он получил ее только на ночь — ничтожный срок, чтобы все объять, — но эта бессонница не позабудется. С первых страниц ему стало ясно, какого масштаба произведение оказалось у него на столе. Теперь он ждет счастливого дня, когда Подколзин в конце концов решится сделать рукопись книгой. Есть у него особая полка для наиболее родственных авторов — в минуты исканий и сомнений он прибегает к их братской помощи. Подколзин займет среди них свое место. Да, эта книга небольшая томов премногих тяжелей. Очень ему хотелось бы знать, прочла ли ее Клара Васильевна?
Дьяков ничего не сказал, но выразительно улыбнулся.
Его реакция не укрылась от собравшихся в артистической комнате и произвела впечатление. Как по команде все обменялись быстрыми взглядами сообщников. Маялся один Полякович. После того, как Дьяков провел параллель меж Подколзиным и Гулливером, он явно испытывал дискомфорт и, как безумец, все еще тщился восстановить равновесие духа. Он заметил, что Яков Янович волен избрать себе нового мессию, но он, Полякович, как мудрый Ротшильд, предпочитает не класть все яйца в одну-единственную корзину. Дьяков немедленно возразил, что мудрый Ротшильд ему не указ. Само собой, право Поляковича распоряжаться своими яйцами, как ему хочется, но он, Яков Дьяков, немолод и недостаточно суетен, чтоб бегать по множеству адресов в наивной надежде на встречу с истиной.
Эффект этих слов был сокрушителен. Видя, что апелляция к Ротшильду дорого ему обошлась, Полякович сделал попытку выплыть и, так сказать, сохранить лицо.
— Все-таки вы впадаете в крайность. Подколзин — талантливый человек с незаурядным интеллектом и со своим незаемным зрением, но вряд ли бы он сам захотел, чтоб из него творили кумира.
Дьяков принял капитуляцию.
— Дело не в терминах, а в существе. Впрочем, я рад, что вы прочли его. А Подколзину ничего не нужно, кроме бумаги и карандаша. И ничего и никого.
Это наблюдение Дьякова Глафиру Питербарк потрясло. Она воскликнула:
— Быть не может!
— И тем не менее, это так, — неумолимо ответил Дьяков. — Поймите, есть люди обихода, иначе сказать — повседневной жизни, и люди надбытные, люди судьбы.
— И что же, он нигде не бывает? — спросил дородный эрудит Порошков.
— Нигде. Разве что очень редко он выбирается на стадион. Подколзин любит следить за борьбой в самых различных ее проявлениях. Она ему многое раскрыла в природе и общества и личности.
— Дух состязательности как стимул, — задумчиво произнес Порошков.
— Похоже, что он ей знает цену, — горько вздохнул Олег Арфеев. — Где состязательность, там суета. Сколько замыслов она погубила!
Гости Арфеева с ним согласились. От суеты все наши беды. Бесспорно, Подколзину повезло, что он недоступен для этой гидры.