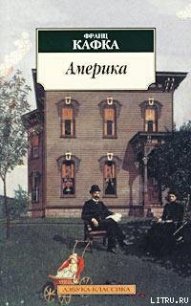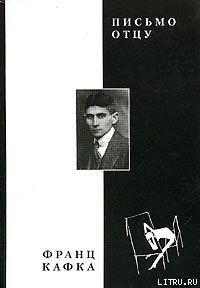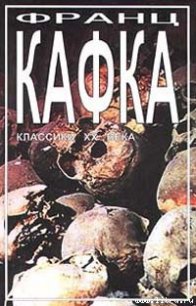Замок - Кафка Франц (электронную книгу бесплатно без регистрации txt) 📗
«Вот тут, как мне кажется, ты коснулась самого главного, – сказал К., – в этом-то и дело. После твоего рассказа я, по-моему, ясно понял все. Варнава слишком молод для такой должности. И ничего из его рассказов нельзя принимать всерьез без оговорок. Оттого, что он там, наверху, пропадает от страха, он ничего толком рассмотреть не может, а когда его все-таки заставляют здесь отчитываться, то ничего, кроме путаных выдумок, не слышат. И я ничуть не удивляюсь. Трепет перед администрацией у вас тут врожденный, а всю вашу жизнь вам его внушают всеми способами со всех сторон, и вы этому еще сами способствуете как только можете. Однако по существу я тут не возражаю: если администрация хороша, почему бы и не относиться к ней с трепетом и уважением? Только нельзя такого неученого малого, как Варнава, который никогда не выезжал за пределы своей Деревни, сразу посылать в Замок, а потом требовать от него правдивых сообщений и каждое его слово толковать как откровение, да еще от этого толкования ставить в зависимость всю свою судьбу. Ничего ошибочнее быть не может. Правда, и я тоже не хуже тебя впал из-за него в заблуждение и не только стал на него надеяться, но и терпел от него разочарования, а ведь все было основано лишь на его словах, то есть, в сущности, и вовсе безосновательно» /…… [47]/. Ольга промолчала. «Мне нелегко, – сказал К., – подрывать твое доверие к брату, ведь я вижу, как ты его любишь, чего ты от него ждешь /…… [48]/. Но приходится так говорить хотя бы ради твоей любви и твоих ожиданий. Ты пойми: ведь тебе все время что-то мешает – хоть я и не знаю что, – именно мешает увидеть как следует если не достижения, каких Варнава добился, то по крайней мере то, что ему подарено судьбой. Ему разрешено бывать в канцеляриях или, если хочешь, в прихожей. Пусть это будет прихожая, но ведь там есть двери, и они ведут дальше, есть загородки, и за них можно пройти, если хватит сноровки. А вот для меня, например, и эта прихожая, по крайней мере пока что, совершенно недоступна. С кем Варнава там разговаривает, я не знаю; может быть, тот писарь и самый ничтожный из служащих, но даже если он и самый ничтожный, он может провести к вышестоящему, а если не может провести, то хотя бы может назвать его имя, а если даже имени назвать не может, то хотя бы укажет на кого-нибудь, кто это имя знает. Мнимый Кламм, вероятно, не имеет ничего общего с настоящим Кламмом, и только ослепленный волнением Варнава находит какое-то сходство. Возможно, что это самый мелкий из чиновников, а скорее, даже и вовсе не чиновник, но ведь какое-то задание у своей конторки он выполняет, что-то из своей большой книги вычитывает, что-то шепчет писарю, что-то думает, когда, пусть изредка, его взгляд останавливается на Варнаве, и даже если все это одна видимость и сам чиновник и его деятельность решительно никакого значения не имеют, то все же кто-то его туда поставил, и с определенной целью. В общем, я хочу сказать: что-то тут есть, что-то Варнаве предоставлено, во всяком случае хоть что-то ему дано, и только сам Варнава виноват, если он из этого не может извлечь ничего, кроме сомнений, страхов и безнадежности. А ведь я тут исхожу из самого неблагоприятного положения, которое даже маловероятно. Есть же у нас на руках письма – правда, я им доверяю мало, но все же больше, чем словам Варнавы. Пусть это будут письма старые, ненужные, никакой цены не имеющие, вынутые наугад из кучи таких же старых писем, именно наугад, так же бессознательно, как канарейки на ярмарке для кого угодно вынимают наугад билетики с „судьбой“, но если это даже так, то все же письма имеют какое-то отношение к моей работе, они явно адресованы мне, как подтвердили староста и его жена, письма эти написаны Кламмом собственноручно, хотя, может быть, и не в мою пользу. И пусть эти письма, опять-таки по словам старосты, и частные и малопонятные, но все-таки они имеют серьезное значение». – «Это тебе сказал староста?» – спросила Ольга. «Да, он так сказал», – ответил К. «Непременно расскажу Варнаве, – торопливо проговорила Ольга, – его это очень ободрит». – «Но ему вовсе не нужно никакого ободрения, – сказал К. – ободрить его – значит сказать ему, что он прав, что пусть он продолжает делать все по-прежнему, но ведь именно так он ничего и не достигнет. Можешь сколько угодно подбодрять человека с завязанными глазами – пусть смотрит сквозь платок, все равно он ничего не увидит, и, только когда снимут платок, он увидит все. Помощь – вот что нужно Варнаве, а вовсе не подбадривания. Ты только подумай: все эти учреждения там, наверху, во всем их недоступном величии, – я-то думал до своего приезда, что хоть приблизительно представляю их себе, какая наивность, – значит, там эти учреждения, и с ними сталкивается Варнава, никто, кроме него, только он один, жалкий в своем одиночестве, и для него еще много чести, если он так и сгинет там, проторчав всю жизнь в темном углу канцелярии». – «Ты только не думай. К., – сказала Ольга, – что мы недооцениваем всю трудность задачи, которую взял на себя Варнава. Уважения к властям у нас предостаточно, ты сам так говорил». – «Да, но это не уважение, – сказал К., – ваше уважение не туда направлено, а относиться так – значит унижать того, кого уважаешь. Какое же это уважение, если Варнава зря тратит дарованное ему право посещения канцелярий и в безделье проводит там целые дни или, спустившись вниз, бесславит и умаляет тех, перед кем он только что дрожал, или если он, то ли от усталости, то ли от разочарования, не относит тотчас же письма и не выполняет без задержки доверенные ему поручения. Нет, тут уж никакого уважения нету. Но мало упрекать его, я и тебя должен упрекнуть, Ольга, этого не избежать. Ты сама, несмотря на весь свой трепет перед администрацией, все же послала в Замок Варнаву – такого молодого, такого слабого и одинокого, во всяком случае, ты его не удержала». /…… [49]/
«Твои упреки, – сказала Ольга, – я повторяю себе уже издавна. Конечно, не за то я себя упрекаю, что я послала его туда, не я его посылала, он сам туда пошел, но я, вероятно, должна была любыми средствами – силой, хитростью, уговорами – удержать его от этого. Да, я должна была его удержать, однако, если бы сегодня снова настал тот день, тот решающий день, и если бы я чувствовала горе Варнавы, горе нашей семьи, как тогда и как чувствую сейчас, и если бы Варнава, ясно представляя себе всю ответственность и опасность, снова, с ласковой улыбкой, осторожно отвел бы мои руки и ушел бы, я бы и сегодня не смогла его удержать, несмотря на все, что случилось с тех пор, да и ты бы на моем месте вел себя так же. Ты не знаешь нашего горя, поэтому ты так несправедлив к нам, и особенно к Варнаве. Тогда мы надеялись больше, чем сейчас, но и тогда очень большой надежды у нас не было, только горе было большое, таким оно и осталось. Разве Фрида ничего тебе о нас не рассказывала?» – «Только намеками, – сказал К., – ничего определенного. Но при одном вашем имени она начинала волноваться». – «И хозяйка тебе ничего не рассказывала?» – «Нет, ничего». – «И никто не рассказывал?» – «Никто». – «Ну конечно, как же они могли хоть что-нибудь рассказать толком. Каждый про нас что-то знает, то ли правду, насколько она людям доступна, то ли какие-то распространившиеся, а по большей части выдуманные слухи, люди нами занимаются больше, чем надо, но рассказать все прямо никто не расскажет, люди боятся и рот открыть про такое. И тут они правы. Трудно выговорить все это даже перед тобой, К., и ведь может так случиться, что ты, выслушав меня, уйдешь и знать нас больше не захочешь, хотя как будто тебя это и не должно касаться. И тогда мы тебя потеряем, а ведь ты, должна сознаться, теперь значишь для меня чуть ли не больше, чем служба Варнавы в Замке. И все же меня весь вечер мучают сомнения, все же ты должен знать, иначе ты никак не поймешь наше положение и по-прежнему – что мне больнее всего – будешь несправедлив к Варнаве, да и у нас с тобой не будет полного понимания, а это необходимо, не то ты ни нам помочь не сможешь, ни нашей очень важной помощи не получишь. Остается один вопрос: хочешь ли ты вообще все знать?» – «Почему ты спрашиваешь? – сказал К. – Если это необходимо, то я хочу знать все, но почему ты так спрашиваешь?» – «Из суеверия, – сказала Ольга, – ты будешь с головой втянут в наши дела, хоть ты и ни в чем не виноват, как не виноват и Варнава». – «Да, рассказывай же скорее! – сказал К. – Ничего я не боюсь. От твоих женских страхов все кажется хуже, чем оно есть».
47
/…Разве и тебе так не кажется?
(– По моему впечатлению, – отвечал К., – ты со мной совершенно откровенна, поэтому и я буду с тобой откровенен, это удовольствие, которое здесь, в деревне, не часто можно испытать.)
– Не знаю, – отвечал К. – (Тут я тебя, Ольга, не понимаю, – сказал К.) Я только знаю, что уделу Варнавы, который представляется тебе таким ужасным, я лично завидую. Конечно, было бы прекрасно, если бы все, чего он добился, не подлежало никакому сомнению, но подумай сама, Ольга (сколько людей слоняются по деревне вовсе без дела), пусть даже он бывает в самых никчемных прихожих самых незначительных канцелярий (и все-таки он там, в приемной), как же далеко внизу он оставляет при этом злосчастную лавку у печи, на которой мы сейчас с тобой сидим. Я удивляюсь, что ты ценишь это лишь для вида, Варнаве в утешение, на самом же деле значения его успехов, видно, вовсе не понимаешь. А ведь при том – и это мне совсем непонятно, – похоже, именно ты ободряешь и подстегиваешь Варнаву во всех его усилиях, чего я, кстати говоря, после первого вечера нашего знакомства и отдаленно предположить бы не мог.
– Ты меня совсем не знаешь, – сказала Ольга. – Никого я не подстегиваю, вовсе нет. Не будь все, что Варнава делает в Замке, так нам необходимо, я бы первая удержала его дома и в жизни туда не отпустила. Разве не пора ему жениться, завести дом и семью? Вместо этого он попусту растрачивает силы, разрываясь между сапожным ремеслом и побегушками посыльного, торчит там, наверху, перед конторкой, ловя каждый взгляд чиновника, что внешне похож на Кламма, дабы в конце концов получить для передачи старое, запыленное, никому не нужное письмо, от которого никакого проку, одни только недоразумения.
– А вот это опять-таки уже совсем другой вопрос, – сказал К. – Что Варнаве приходится разносить бесполезные, а то и вредные письма, может послужить основанием для обвинения против властей, может далее обернуться скверными последствиями для адресата, то бишь для меня, однако для самого Варнавы тут никакого вреда нет, он лишь в соответствии с поручением разносит по адресам письма, содержания которых часто даже не знает, никакой его вины тут нет, он посыльный и справляет службу посыльного, в точности как вы того и хотели.
– Ну да, – отозвалась Ольга. – Может быть, и так. Иной раз, когда я одна тут сижу, Варнава в Замке, Амалия на кухне, отец с матерью, бедняги, за столом носами клюют, я попробую, бывало, вместо Варнавы сапожничать, да у меня руки-крюки, бросаю и начинаю изо всех сил думать, только ума у меня на эти вещи совсем не хватает, и все как-то в голове путается, даже страхи и заботы уже не особняком стоят, а вроде как расплываются, пропадают куда-то.
– Вот тут, по-моему, ты к самому главному и подошла, – сказал К. – В этом все дело. Варнава слишком молод для такой работы. Ничего из его рассказов нельзя принимать всерьез, и не потому, что он, допустим, рассказывает неправду, а потому именно, что он там обмирает от страха. И я ничуть этому не удивляюсь. Благоговение перед властями у всех у вас в крови, от самого рождения и всю жизнь вам его тут со всех сторон и на все лады внушают, чему и сами вы способствуете, каждый по мере сил. По сути, я ничего и не имею против: если власть хороша, почему бы перед ней и не благоговеть. Только вот нельзя совершенно неискушенного юношу вроде Варнавы, который дальше своей деревни и не видел ничего, так сразу посылать в Замок, а потом ждать и требовать от него правдивых рассказов, каждое слово толкуя как слово откровения да еще стараясь из толкований этих собственную судьбу вызнать. Ничего нет ошибочнее и порочней! Правда, и я поначалу позволил ему вот этак сбить себя с толку, возлагая на него надежды и претерпев из-за него разочарования, и то и другое основывая только на его словах, то бишь, по сути, ни на чем не основывая. Он твой брат, ты возлагаешь на него большие надежды, и то, чего он уже достиг, похоже, дает тебе на это право.
– Может, так оно и есть, – проговорила Ольга. – Я тебе верю, ты ведь человек независимый, судишь беспристрастно, так что тебе, наверно, видней, но мы-то после пережитого вечно в страхе и не в силах этому страху сопротивляться – нас любой скрип половицы пугает, да и вообще любой посторонний шорох, а мы толком и не уразумеем почему.
– Вот уж не думал, что ты такая, – сказал К.
– А я такой и не была, я такой стала. Разве Фрида ничего тебе про нас не рассказывала?
– Только намеками, – ответил К., – а так ничего определенного, но при одном упоминании о вас она выходит из себя.
– И трактирщица ничего не рассказывала?
– Да нет, ничего.
– И больше никто?
– Никто.
– И не удивительно, – заметила Ольга. – Ни от кого в деревне ты ничего определенного про нас не узнаешь, зато каждый, неважно, знает он, о чем вообще речь, или не знает, а только верит в прослышанные где-то, большей частью ими же самими выдуманные сплетни, – каждый найдет способ показать тебе, насколько он нас презирает вообще и в частности, очевидно, он просто не может иначе, в противном случае он сам себя презирать начнет. Из-за этого, конечно, иной раз совсем несуразные вещи творятся. Ты знаешь преемницу Фриды? Пепи ее зовут. Я только позавчера вечером с ней познакомилась, она раньше горничной работала. Так вот, она в своем ко мне презрении наверняка Фриду переплюнула. Она, как увидела меня из окна – я за пивом пришла, – подбежала к двери и нарочно ее заперла, мне пришлось долго ее упрашивать и даже посулить ленту, что у меня в волосах была, прежде чем она открыть соизволила. А когда я ей ленту отдала, она не глядя швырнула ее в угол. Что ж, пусть презирает, как-никак я от нее завишу, она теперь буфетчица в «Господском подворье», правда, только временно и надолго не задержится, нет у нее нужных качеств, чтобы на таком месте постоянно работать. Стоит только послушать, как хозяин с этой Пепи разговаривает, и сравнить, как он с Фридой обращался. Но Пепи это ничуть не мешает презирать не только меня, но и Амалию, Амалию, одного взгляда которой было бы достаточно, чтобы эту пигалицу Пепи со всеми ее косичками и рюшами из комнаты так и вынесло, пулей бы вылетела, как ей на своих толстеньких ножках в жизни не поспеть. А какую возмутительную болтовню про Амалию пришлось мне вчера от нее выслушивать, покуда гости за меня не взялись, к сожалению, на тот же манер, как ты однажды имел возможность видеть.
– Но за что они вас презирают? – спросил К. и тотчас вспомнил омерзение, какое испытал в первый вечер при виде всей этой семейки, сгрудившейся за столом в тусклых бликах крохотной керосиновой лампы, при виде этих широких, тесно, одна к одной, сплотившихся спин, при виде стариков, почти уронивших седые, сморщенные головы в тарелки с супом, в тупом ожидании, когда их наконец накормят. До чего же это было отвратительно, а еще отвратительнее, что общее впечатление нельзя объяснить никакими частностями, то есть частности вообще-то можно даже перечислить, чтобы хоть за что-то ухватиться, но беда не в них, а в чем-то ином, чему и название не подберешь. Лишь позже, присмотревшись к жизни в деревне и научившись не очень доверяться первым впечатлениям, да и не только первым, но и вторым и всем последующим, и лишь после того, как это сбившееся в неаппетитную кучку семейство разделилось в его глазах на отдельных людей, которых он отчасти понимал и которым, главное, мог сочувствовать почти как друзьям, ближе которых у него в деревне до сих пор так никого и нет, – лишь тогда та давняя, самая первая неприязнь стала помаленьку улетучиваться, но все еще ушла не до конца, родители в углу, маленькая лампа, сама изба, – нет, спокойно выносить все это по-прежнему нелегко, и только некий особый, как бы в возмещение преподнесенный подарок, вроде вот сегодняшнего рассказа Ольги, помогал хоть как-то, да и то скорее для вида и лишь на время, со всем этим убожеством мириться. Погруженный в свои мысли, он добавил:
– Я убежден, с вами поступают несправедливо, это я перво-наперво хочу сказать. Но людям, должно быть, тяжело – я, правда, не знаю, по какой причине, – обходиться с вами иначе. Надо быть совсем чужаком на моем особом положении, чтобы этому предубеждению не поддаться. Но и на меня оно долго действовало, и настолько сильно, что эта настроенность людей против вас – а тут не только презрение, но еще и страх – мне казалась само собой разумеющейся, я как-то и не думал о ней, не расспрашивал о причинах, не пытался за вас вступиться, правда, еще и потому, что все это было от меня далеко или казалось далеким. Зато теперь мне все совершенно по-другому видится. (Теперь я думаю, что люди, которые вас презирают, о причинах своего презрения не просто молчат – они этих причин и вправду не ведают. Надо лучше вас узнать, особенно тебя, Ольга, чтобы от этого наваждения избавиться.) Не иначе вам ставят в вину, что вы выше других подняться норовите, что Варнава посыльным при Замке стал или стремится стать, – вот за что все на вас в обиде; им бы восхищаться вами, а они вместо этого вас презирают, да притом с такой злостью, что вы не в силах их презрению противостоять, – ибо что еще все ваши заботы, сомнения и страхи, как не следствие этого всеобщего презрения? Ольга улыбнулась и вдруг глянула на К. таким умным, таким светлым, таким проницательным взглядом, что ему стало не по себе, будто он что-то совсем несуразное сказал, а Ольга теперь считает своим долгом прочистить ему мозги и все несуразности исправить, причем донельзя счастлива, что ей выпала такая задача. И вопрос, почему все против их семьи так ополчились, вновь показался К. неразрешимой загадкой, безотлагательно требующей самого ясного ответа.
– Нет, – молвила Ольга, – это не так, отнюдь не такое благоприятное у нас положение, это просто ты от Фриды нас не защищал и теперь пытаешься наверстать упущенное, защищая нас сверх меры. Вовсе мы не стремимся выше других подняться. И разве такое уж высокое это стремление – мечтать стать посыльным при Замке? Да всякий, кто на ногу скор и несколько слов поручения в памяти удержать способен, вполне может стать при Замке посыльным. Это ведь к тому же и должность-то неоплачивамая. Похоже, просьбу принять человека на должность посыльного в Замке воспринимают примерно так же, как приставание маленьких, томящихся от безделья детей, когда те клянчат что-то вместо взрослых сделать, допустим, сбегать куда-нибудь не за плату, а только похвалы и интереса ради. Так вот и здесь, с той лишь разницей, что желающих совсем не так много, и тех, кого принимают, – неважно, на самом деле принимают или только для вида, – по головке, как детей, не гладят, а только мучают. Нет, завидовать тут совершенно нечему, нам и не завидуют, скорее уж сочувствуют, при всей враждебности все-таки и проблеск сострадания иной раз в людях встретишь. Может, вот и в твоем сердце тоже, иначе что еще могло тебя к нам привлечь? Одни только послания Варнавы? Ни за что не поверю. Им-то ты, наверно, никогда особого веса не придавал, это лишь из сострадания к Варнаве – или, скажем так, в основном из сострадания – ты настаивал на их доставке. И, надо сказать, тут ты не ошибся. Потому что Варнава, хоть и страдает от твоих чрезмерных, неисполнимых требований, но в то же время у него вроде как и гордости прибавляется, и уверенности в себе: беспрестанные сомнения, от которых он там, наверху, в Замке, не может избавиться, благодаря твоему доверию, твоему настойчивому участию все-таки хоть на время отступают. С тех пор как ты в деревне, он явно лучше стал. Да и нам, остальным, кое-что от такого твоего доверия тоже перепадает, и перепадало бы еще больше, приходи ты к нам почаще. Но ты вынужден себя сдерживать из-за Фриды, я понимаю, я и Амалии так пыталась объяснять. Но она такая нервная, я в последнее время, даже когда очень нужно, и то боюсь с ней заговоривать. Когда с ней говорят, она, похоже, и не слушает даже, а если слушает, то сказанного как-будто не понимает, а если понимает, то вроде как презирает говорящего. Только у нее все это выходит не нарочно, так что на нее и сердиться нельзя; чем она отрешеннее, тем ласковей надо с ней обходиться. Насколько она кажется сильной – настолько же она слабая. Вчера, к примеру, Варнава сказал, что ты сегодня придешь; правда, поскольку уж он-то Амалию знает, он на всякий случай тут же добавил, что ты только, может быть, придешь, это, мол, еще не наверняка. И все равно Амалия извелась вся, ничего делать не могла, целый день тебя прождала и только к вечеру, когда уже с ног валилась от усталости, вынуждена была прилечь.
– Теперь я понимаю, – проговорил К., – почему я что-то для вас значу, хоть никакой моей заслуги в том и нет. Мы связаны друг с другом именно что как посыльный с адресатом, но не более того, так что не преувеличивайте, мне слишком важна ваша дружба, особенно твоя дружба, Ольга, и я не могу допустить, чтобы преувеличенные ожидания ей повредили. Точно так же и вы едва не стали мне почти чужими оттого, что я слишком большие надежды с вами связывал. Со мной ведь играют ничуть не меньше, чем с вами, выходит, это вообще очень большая, хитрая и поразительно слаженная игра. Верное ли у меня по твоим рассказам сложилось впечатление, что два послания, которые Варнава мне доставил, вообще пока что единственные, которые ему доверили?
Ольга кивнула.
– Я стыдилась в этом признаться, – ответила она, потупив глаза. – А вернее, боялась, что тогда эти письма покажутся тебе еще никчемнее.
– Но ведь вы обе, и ты, и Амалия, наоборот, всегда старались преуменьшить в моих глазах значение этих писем.
– Да, – согласилась Ольга – Это Амалия так считает, ну и я вслед за ней. Понимаешь, это все от безнадежности, которая совсем нас одолела. Нам кажется, никчемность этих посланий настолько очевидна, что, если мы на эту очевидность лишний раз укажем, большой беды не будет, что мы, наоборот, тем самым только завоюем у тебя больше доверия и сочувствия, потому что это единственное, на что мы, по сути, уповаем. Ты меня понимаешь? То есть мы рассуждаем примерно вот как: послания сами по себе ничтожны, непосредственно из них ничего дельного не почерпнешь, да и ты слишком умен, чтобы в этом отношении позволить себе обмануться, а даже сумей мы тебя обмануть, тогда получилось бы, что уже Варнава лжепосланник и от лжи вообще спасу нет.
– Значит, и ты неискренна со мной, – сказал К. – Даже ты со мною не искренна.
– Ты не понимаешь, в какой мы беде, – проронила Ольга, боязливо глянув на К. – Мы, наверно, сами виноваты, от людей напрочь отвыкли и своими отчаянными попытками тебя привлечь только все больше тебя отталкиваем. Это я-то с тобой не искренна? Да искреннее, чем я с тобой, просто и быть нельзя. А если я и умалчиваю о чем, то только из страха перед тобой же, но видишь, я ведь и о. страхе своем не умалчиваю, показываю его открыто, избавь меня от этого страха – и я вот она, вся тут.
– И что же это за страх? – спросил К.
– Страх тебя потерять, – ответила Ольга. – Сам подумай, вот уже три года Варнава бьется за место посыльного, три года мы, затаив дыхание, ждем хоть какого-то успеха, и все тщетно, несмотря на все усилия, – ни тени успеха, только позор и напрасные муки, только зря потерянное время и мрак угроз вместо будущего, и вдруг однажды вечером он приходит с письмом, письмом для тебя. Прибыл какой-то землемер, как будто сама судьба его нам послала. «Мне поручается обеспечивать все сообщение между ним и Замком, – говорит Варнава. – Похоже, важное дело затевается», – говорит он. «Еще бы, – отвечаю, – это ж землемер! Он будет производить работы, значит, у него будет большая деловая переписка. Наконец-то ты стал настоящим посыльным, совсем скоро тебе и форму выдадут». – «Может быть», – ответил Варнава, даже этот изверившийся, замучивший себя сомнениями мальчик сказал «может быть»! В тот вечер мы были счастливы, даже Амалия, пусть и на свой лад, радовалась вместе с нами, она, правда, нас не слушала, но лавку, на которой прилегла, передвинула к нам поближе и изредка поглядывала, как мы с братом смеемся и шушукаемся. Только счастье недолго длилось, оно, проще сказать, в тот же вечер и кончилось. Хотя внешне-то сперва показалось, что оно, счастье, еще сильнее должно стать, когда Варнава вдруг вместе с тобой домой явился. Но тут же сразу и сомнения начались, для нас, конечно, это очень почетно было, что ты к нам пришел, но в то же время что-то тут было не так. Чего тебе надо? – спрашивали мы себя. – Зачем ты пришел? Вправду ли ты большой человек, за которого мы тебя принимаем, если тебе так приспичило в нашу бедную хижину пожаловать? Почему ты не остался у себя, где тебя разместили, почему не вызвал, как подобало бы твоему достоинству, посыльного к себе, чтобы немедленно отправить его с поручением? Разве тем, что ты явился к нам, ты хотя бы отчасти не принижаешь службу посыльного, не лишаешь важности саму должность Варнавы? К тому же ты и одет был хотя и не по-нашему, но все равно бедно, твое пальто, насквозь промокшее, которое я с тебя сняла, я потом еще долго с грустью в руках вертела. Неужто с первым, таким долгожданным адресатом нам опять только несчастье выпало? Потом, впрочем, мы заметили, что ты не очень-то склонен с нами знаться, к окну словно прирос и никакими силами тебя с нами за стол не усадить. Ну мы на тебя и не оборачивались, хотя ни о ком другом уже и думать не могли. Или ты для того только пришел, чтобы нас проверить? Посмотреть, из какой семьи приставленный к тебе посыльный? Значит, еще и двух дней здесь не пробыл, а у тебя уже против нас подозрения? И выходит, проверка для нас добром не кончилась, коли ты такой надменный да неприступный стоишь, слова доброго не скажешь и уже уйти торопишься? А уход твой стал для нас доказательством, что ты не только нас не уважаешь, но и, что куда страшней, и доставленные Варнавой послания. Мы-то сами и неспособны были истинное их значение оценить, это только ты мог, кого они непосредственно, по твоей работе, касались. Собственно, это ты сам же и научил нас в них сомневаться, плачевные наблюдения Варнавы там, наверху, в канцелярии, только с того вечера и начались. А все вопросы, которые еще после того вечера оставались, следующим же утром разъяснились окончательно. Когда я, выйдя вместе с челядью из конюшни, увидела, как ты с Фридой да с помощниками из «Господского подворья» уходишь, у меня никаких сомнений не осталось: значит, ты никаких надежд на нас не возлагаешь, значит, ты нас бросил. Варнаве я, правда, ничего об этом не сказала, у него и так тяжких забот хватает.
– Но разве я снова не здесь, не с вами? – спросил К. – Разве не заставляю ждать Фриду, разве не слушаю рассказы о вашей беде все равно как о своей собственной?
– Да, ты здесь, – согласилась Ольга, – и мы счастливы, что ты здесь. А то надежда, которую ты нам принес, стала ослабевать, и нам уже очень нужно было, чтобы ты пришел.
– Так и мне очень нужно было прийти, – сказал К.,– я теперь вижу…/
48
/…Кстати, мне эти твои ожидания вообще не вполне понятны, исполнить их, по-моему, не только твоему брату, но и вообще никому не по силам. Но это мы еще после обсудим, если ты не возражаешь. Я же первым делом хотел бы сказать вот что: мое суждение о твоем брате не должно приводить тебя в отчаяние, будь у тебя и правда причина из-за него отчаиваться, думаю, я бы тогда промолчал…/
49
/…И Амалия, кстати, тоже не стала вмешиваться, хотя, по твоим намекам, гораздо больше тебя о Замке знает, может, впрочем, она тут больше всех и виновата.
– Поразительно, как ты все видишь, – сказала Ольга. – Иногда одно твое слово мне сразу помогает все понять, наверно, это потому, что ты совсем не из наших мест. Тогда как мы тут, наученные горьким опытом и вечными страхами, любого скрипа половицы пугаемся и не умеем со своей трусостью бороться, стоит одному испугаться – и вслед за ним, даже и причины толком не зная, пугаются все. Да при такой пугливости ни одна здравая мысль в голову не придет. Даже и будь у меня способность все до конца продумывать – а у нас, женщин, ее отродясь не было, – при такой жизни ее обязательно растеряешь. Какое же это счастье для нас, что ты тут появился.
Здесь, в деревне, К. впервые слышал, чтобы его приход так безоговорочно приветствовали, но сколь бы ни хотелось ему этого прежде и сколь бы искренне, на его слух, ни прозвучали Ольгины слова, услышать их он был вовсе не рад. Не для того он сюда пришел, чтобы кому-то счастье приносить, конечно, между делом, попутно он волен и помогать, но не стоит приветствовать его как избавителя, несущего людям счастье; всякий, кто так на него смотрит, только сбивает его с пути, пытаясь вовлечь в дела, за которые вот так, вынужденно, он, К., никогда не брался и браться не станет, при всем желании не может он себе этого позволить. Впрочем, Ольга, продолжив, тут же загладила свою промашку:
– Правда, едва я подумаю, что наконец-то могу ни о чем не тревожиться, ибо ты теперь все сумеешь объяснить и всегда найдешь выход, как ты вдруг что-нибудь такое скажешь, ну совсем неправильное, даже слушать больно, как вот сейчас про Амалию: она, дескать, больше всех знает, ни во что не вмешивается и больше всех виновата. Нет, К., до Амалии нам далеко, не нам ее судить, а уж тем более упрекать. Все, что в рассуждении о других вещах тебе помогает – твоя зоркость чужака, твоя смелость, – все это же мешает тебе судить об Амалии. Чтобы осмелиться в чем-то ее упрекать, надо сперва иметь хотя бы смутное представление о ее страданиях. Она как раз в последнее время такая беспокойная стала, столько всего в себе прячет, – а прячет она, в сущности, не что иное, как все то же свое страдание, – я даже о самых простых и насущных вещах с ней говорить не отваживаюсь. Когда я сегодня в дом вошла и увидела, как ты мирно с ней беседуешь, я просто обмерла от страха, потому что на самом-то деле с ней ведь сейчас говорить невозможно, правда, через какое-то время она успокоится или, может, не столько даже успокоится, сколько просто нервничать устанет, но сейчас у нее опять самая скверная полоса. Когда с ней говорят, она, похоже, и не слушает даже, а если слушает, то сказанного как будто не понимает, а если понимает, то вроде как презирает говорящего. Только у нее все это выходит не нарочно, так что на нее и сердиться нельзя; чем она отрешеннее, тем ласковей надо с ней обращаться. Насколько она кажется сильной – настолько же она слабая. Вчера, к примеру, Варнава сказал, что ты сегодня придешь; правда, поскольку уж он-то Амалию знает, он на всякий случай тут же добавил, что ты только, может быть, придешь, это, мол, еще не наверняка. И все равно Амалия извелась вся, ничего делать не могла, целый день тебя прождала и только к вечеру, когда уже с ног валилась от усталости, вынуждена была прилечь.
И снова К. послышались в этих словах некие притязания, заявляемые на него семейством; да в этой семейке, как в лесу, по неосторожности и заблудиться недолго. Было ужасно жаль, что подобные мысли, которые и высказать-то нельзя, занимают его как раз в разговоре с Ольгой, подрывая то теплое, благотворное чувство доверия, которое Ольга первая же, и больше других, вызывает в его душе, – с той самой Ольгой, из-за которой он сейчас здесь засиделся и даже саму мысль об уходе от себя гонит, откладывая ее на неясное потом.
– Я уже вижу – сказал К.,– нам трудно будет прийти к общему мнению. Мы и до сути еще толком не добрались, а у нас то и дело возникают разногласия. Будь мы только вдвоем, все было бы куда проще, с тобой одной, думаю, я быстрее бы сошелся во взглядах, ты самоотверженная и умная, но мы, увы, не одни, и главное не в нас, а в твоей семье, насчет которой мы вряд ли придем к согласию, а уж насчет Амалии и подавно.
– И ты вот так, напрочь, осуждаешь Амалию? – изумилась Ольга. – Осуждаешь, совсем ее не зная?
– Я ее не осуждаю, – возразил К., – и не закрываю глаза на ее достоинства, я даже готов признать, что, возможно, несправедлив к ней, но очень трудно быть к ней справедливым, когда она так высокомерна, замкнута, а вдобавок еще и властолюбива донельзя, не будь она при этом так печальна и столь очевидно несчастлива, ее и вовсе невозможно было бы выносить.
– И это все, что тебя в ней не устраивает? – спросила Ольга, уже сама грустнея на глазах.
– Да разве этого мало? – отозвался К. и только тут заметил, что Амалия (далее по тексту). – Так вон она где, – добавил он, и против воли в словах его прозвучало безмерное отвращение и к самой этой трапезе, и ко всем ее участникам.
– Ты настроен против Амалии, – сказала Ольга.
– Да, настроен, – согласился К., – вот только почему я против нее настроен? Скажи ты, если знаешь. Ты откровенна со мной, и я весьма это ценю, но ты откровенна только в том, что касается тебя лично, а брата и сестру почему-то считаешь нужным защищать стеной молчания. Это неправильно, не могу я оказывать поддержку Варнаве, если не знаю всего, что касается его и Амалии тоже, раз уж Амалия у вас во все замешана. Ты же не хочешь, чтобы я, предприняв что-то на свой страх и риск, все испортил только по причине недостаточного знания некой подноготной, нанеся тем самым непоправимый вред и вам, и себе.
– Нет, К., – помолчав, вымолвила Ольга. – Этого я не хочу, а потому, наверно, лучше будет все оставить по-старому.
– Я не думаю, – возразил К., – что так будет лучше, я отнюдь не думаю, что будет лучше, если Варнава и дальше будет влачить это призрачное существование мнимого посыльного, а вы, взрослые люди, живущие детскими бреднями, будете разделять с ним его участь, не думаю, что это будет лучше, чем если бы Варнава, вступив в союз со мной, предоставил мне здесь, в тишине и покое, разрабатывать план действий, а сам, с куда большей уверенностью в себе, ибо он будет уже не один, под непрестанным моим контролем начнет неукоснительно этот план исполнять, к своей и моей пользе проникая все дальше в глубь канцелярий, а даже если ему не удастся проникнуть глубже, основательно и со смыслом освоит все хотя бы в том помещении, куда у него уже имеется доступ, и научится приобретенными знаниями с толком пользоваться. Не думаю, чтобы это было плохо и не стоило известных жертв. Возможно, впрочем, что я и тут не прав, и как раз то, о чем ты умалчиваешь, доказывает твою правоту. Что ж, тогда, несмотря ни на что, мы останемся добрыми друзьями, мне-то, по крайней мере, здесь без твоей дружбы уже никак не обойтись, но сидеть тут целый вечер, понапрасну заставляя ждать Фриду, мне ни к чему, только важное, неотложное участие в делах Варнавы могло бы мое присутствие здесь оправдать. К. хотел было встать, Ольга его удержала.
– Тебе Фрида ничего про нас не рассказывала? – спросила она.
– Ничего определенного.
– И хозяйка не рассказывала?
– Да нет же.
– Так я и думала, – проронила Ольга. – Ни от кого в деревне ты ничего определенного про нас не услышишь, зато всякий, неважно, знает он, в чем дело, или не знает, а только верит в распущенные кем-то слухи, если сам же их не придумывает, каждый на свой манер постарается тебе показать, как он нас презирает – и не за что-то определенное, а вообще, очевидно, он просто не может иначе и себя начнет презирать, если вдруг нас презирать перестанет. И Фрида так же, да и все. Однако презрение это только внешне направлено на всю нашу семью без разбору, на самом же деле острие его целит только в Амалию. Оттого, К., я тебе так и признательна, что ты, хотя всеобщего влияния не избежал, однако нас и даже Амалию все-таки не презираешь. Только некоторое предубеждение против Варнавы и Амалии у тебя есть, видимо, полностью избежать воздействия людской молвы все-таки никому не дано, но что ты оказался в этом смысле настолько неподатлив – это очень много для меня значит, на этом, главным образом, тол
Замок отзывы
Отзывы читателей о книге Замок, автор: Кафка Франц. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Уважаемые читатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор online-knigi.org