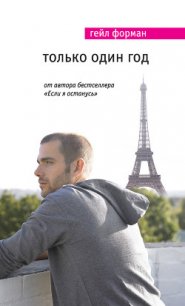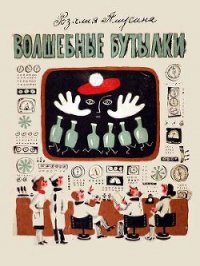Снеговик - Фарфель Нина Михайловна (читаем книги .txt) 📗
Наконец я на ощупь уже нашел скромную каменную плиту; я сел возле нее и, скинув с себя маску арлекина, наплакался вволю. Я провел там несколько часов, погруженный в раздумье, и решил, прежде чем покину эти места, и, может быть, навсегда, покаяться в моих былых заблуждениях и как следует поразмыслить над тем, что же мне делать. Благодать божья — это не иллюзия, господин Гёфле. Я не знаю, какой вы там лютеранин, а что до меня, то я не кичусь тем, что я настоящий католик, Мы живем в такое время, когда никто ни во что не верит, разве только в то, что надо быть веротерпимым и что это наш долг, но я… я смутно верю в мировую душу, называйте ее как хотите, — в великую душу, исполненную любви и доброты, которой мы поверяем наши слезы и наши желания. Нынешние философы считают нелепостью полагать, что высшее существо снизойдет до того, чтобы заниматься такими ничтожными червями, как мы. Я же утверждаю, что не существует ни большого, ни малого перед лицом того, в ком воплотилось все, и что в океане любви всегда найдется место, где можно ласково подобрать бедную человеческую слезинку.
Сидя у этой могилы, я стал размышлять о своих поступках: мне казалось, что в этом потоке кроткого света, который струили с неба спокойные звезды, мои отец и мать тоже могли послать мне маленький луч, чтобы отыскать и благословить меня. Мне нечего было перед ними стыдиться, на совести у меня не было ни преступления, ни подлого или нечестивого поступка, я не забывал о них ни на один день, и среди всех соблазнов, когда демон юности и любопытства подталкивал меня к безднам этого порочного и безвольного мира, я защищался и спасал себя воспоминаниями о Сильвио и Софии.
Но недостаточно было избегать зла — надо было творить добро. Добро — это нечто относительное и зависит от положения и способностей каждого из нас. Я чувствовал себя обязанным продолжить работы Сильвио Гоффреди и сделать так, чтобы сэкономленные деньги позволили мне написать и опубликовать результаты его исследований. Для этого мне нужно было сколотить себе какое-то состояние, с тем чтобы продолжить его путешествия. Сначала я об этом действительно думал, а потом неопытность, влечения чувств и дурные примеры привели к тому, что я стал жить как искатель приключений — лишь сегодняшним днем. Эти поиски приключений в конце концов и стали причиной моей гибели. Если бы я довольствовался местом скромного учителя, я не был бы вынужден убивать Марко Мельфи. Ему бы не пришло в голову меня оскорбить, и он даже никогда и не встретил бы меня в гостиных кардинала, не стал бы меня разыскивать в моем кабинете, среди книг, — он бы даже не знал о моем существовании. Я не жил жизнью, какая подобает человеку серьезному. Мне хотелось разыграть роль дворянина, а вот пришлось стать убийцей.
«Сколько бы слез пролила моя бедная мать, — думал я, — если бы она увидела меня сейчас, переодетого бродячим актером, изранившего о камни ноги, которые она когда-то согревала своими руками, прежде чем положить меня в колыбель. И разве мой отец не стал бы бранить меня за эту ложно понятую честь, которая сделала меня убийцей и изгнанником?»
Я вспоминал живой характер и гордую щепетильность благородного Сильвио. Сам он никогда не брал в руки шпаги и отказался взять для меня учителя фехтования, сказав, что дешево стоит честь человека, если он не умеет себя уважать без клинка на боку!
Я поклялся священной памятью дорогих мне людей исправить мои ошибки, и после того, как я долго глядел на небо, где, казалось мне, они могли соединиться на одной из счастливых звезд, я пошел обратно по дороге в деревню, решив, что не стану ничего узнавать о нашей villetta. Разве я имел право предаваться бесплодным сожалениям? Сильвио завещал мне эту виллу вовсе не для того, чтобы я обогатился и стал жить в праздности. Он должен был бы благословить меня из своей могилы, когда я отдал и истратил все, чтобы облегчить последние дни жизни его вдовы; однако, принеся эту жертву, я должен был работать еще больше и не думать, что один-единственный благой поступок, вызванный чувством преданности близкому человеку, давал мне право напиваться пьяным в доме людей, которым нечего было делать.
На обратном пути я встретил Гвидо Массарелли, который отправился За мной на берег озера. Он беспокоился за меня. Я рассказал ему обо всем, что здесь передумал, и он, видимо, был очень растроган. Усевшись в стоявшую на причале лодку, мы стали говорить с ним о чувствах, морали, философии, метафизике, астрономии и поэзии и просидели так до того, как забрезжил рассвет. У Гвидо был очень возвышенный ум. Увы! Эта странная аномалия встречается у подлецов, как бы для того, чтобы заставить нас усомниться в промысле божьем!
На следующий день мы были уже в пути, а несколько дней спустя во Флоренции, возле Старого дворца, мы уже веселили уличную толпу. Сбор оказался хорошим. Мы могли бы поехать в Геную в повозке. Тем не менее мы с удовольствием шли пешком, но наш багаж, который все время пополнялся новыми марионетками и новыми декорациями, стал очень тяжелым.
В Генуе нас ждал новый успех и необыкновенный сбор. Представления наши так нравились, что мы уже не могли удовлетворить всех обращенных к нам просьб. Поначалу на городской площади мы развлекали простой народ, когда же перед балаганом остановилось несколько лиц более высокого ранга, мы не могли отказаться от желания пококетничать и поднять наш диалог на более высокий уровень, сделав спектакль для более образованной публики.
На него обратили внимание, и его стали повторять в свете. Одним из таких случайных зрителей оказался маркиз Спинола, который пригласил нас к себе, чтобы позабавить своих детей. Мы явились к нему в масках, поставив наше инкогнито одним из обязательных условий спектакля. Театр наш расположился у него в саду, и нашими зрителями были самые высокопоставленные и знаменитые люди города.
В последующие дни мы уже не знали, кого и слушать. Все стремились заполучить нас к себе, и Гвидо назначил очень высокую плату за вход, однако никто не стал возражать. Тайна, которой мы себя окружили, маски на лицах — мы ни за что не хотели их снимать до того, как войдем в балаган, — фантастические имена, которыми мы себя называли, — все это, разумеется, делало наши спектакли еще более модными. Все без труда догадались, что оба мы происходим из хороших семей, но в то время как одни догадывались также, что мы стали бродяжничать после того, как учинили какую-то глупость, другие убеждали себя, что мы занимаемся этим ремеслом исключительно ради забавы и побившись с кем-то об заклад. Дошли даже до того, что отождествили нас с двумя молодыми неаполитанцами, которые потом не замедлили приписать себе наши успехи, о чем нам рассказали уже позднее.
В Ницце, Тулоне и до самого Марселя нас сопровождал триумф за триумфом. А так как мы передвигались медленно, то наша слава опережала нас, и на постоялых дворах, где мы останавливались, мы узнавали, что уже кто-то приходил спрашивать о нас и приглашать на вечерние представления.
После Марселя успех наш стал уменьшаться, и так дела шли до Парижа. Я довольно хорошо говорил по-французски и с каждым днем освобождался от итальянского акцента, который вначале мешал мне варьировать интонации моих персонажей; акцент же Гвидо, гораздо более заметный, чем мой, напротив, становился еще ощутимее, и наш диалог от этого страдал. Меня это нисколько не беспокоило. Мы собирались бросать ремесло актера, и я радовался, что у нас есть теперь достаточно средств для того, чтобы начать более серьезную жизнь.
VI
Передохнув несколько минут, Кристиано, которого мы теперь будем называть Христианом, продолжил свою повесть.
— Не забыть бы рассказать вам, какая интересная встреча примирила меня на несколько дней с ремеслом странствующего актера. Это был совершенно необыкновенный человек; он занимает сейчас в Париже высокое положение, и вы о нем, разумеется, слыхали. Речь идет о Филиппе Ледрю, прозванном Комюсом [52].
52
Ледрю Филипп (1731–1807) — физик короля Людовика XV, показывавший шутливые фокусы при дворе. Был прозван Комюсом (правильно — Ком, бог пиршеств в греческой мифологии), так как легендарный Ком был допущен на Олимп, чтобы развлекать главных богов.