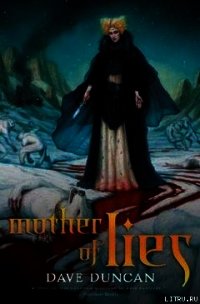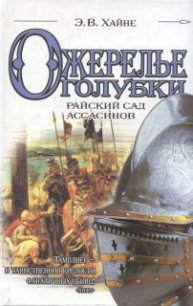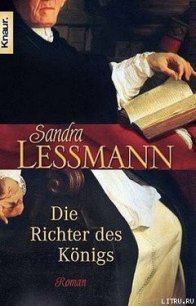Орландо - Вулф Вирджиния (бесплатная библиотека электронных книг TXT) 📗
Она свернула в Гайд-парк, знакомый ей исстари (вот под тем расщепленным вязом упал, помнится, герцог Гамильтон, насквозь пронзенный лордом Муном), и губы ее, часто этим грешившие, стали складывать в дурацкую песенку слова телеграммы: жизнь – литература – Грин – пресмыкается – Бара-Бек – Лимпомпоний, так что сторожа на нее поглядели с опаской и склонялись к положительному мнению о ее здравом уме, только разглядев у нее на шее жемчужное ожерелье. Она захватила в книжной лавке пачку газет и журналов и, наконец устроившись под вязом, обложившись ими, принялась старательно изучать благородное искусство прозы в исполнении этих мастеров. В ней оставалось еще много наивного: что-то священное мнилось ей в самой расплывчатости газетной печати. Лежа опираясь на локоть, она взялась за статью сэра Николаса о сочинениях человека, которого знавала когда-то: Джона Донна. Но она нечаянно расположилась у самого Серпантина. Лай несчетных собак звенел у нее в ушах. Вокруг непрестанно шуршали колеса. Над головой вздыхала листва. То и дело оборчатая юбка в сопровождении пары литых ярко-красных брючин у самого ее носа пересекала траву. Раз гигантский резиновый мяч угодил на газету. Синее, оранжевое, лиловое, красное врывалось сквозь прорехи в листве и заигрывало с изумрудом у нее на пальце. Она отвлекалась. То посмотрит в газету, то в небо; то вниз посмотрит, то вверх. Жизнь? Литература? Перевоплотить одно в другое? Но это ведь чудовищно трудно! А как бы – опять эти ярко-красные брючины, – а как бы это выразил, например, Аддисон? Пожалуйста – две собаки, и обе на задних лапах, – как бы, скажем, передал это Лэм [56]? Она читала сэра Николаса и его приятелей (когда ее не отвлекали), и у нее создалось впечатление – она встала и прошлась по травке, – впечатление – очень неприятное впечатление, – что никогда, никогда не следует выражать собственных мыслей. (Она стояла на берегу Серпантина. Он отливал свинцом; паучками скользили от берега к берегу лодки.) Они создают впечатление, что каждый обязан вечно, вечно писать, как кто-то другой. (Слезы накипали у нее в глазах.) Нет, правда, думала она, подпихивая ногой игрушечную лодочку, я, конечно, так не сумею (тут статья сэра Николаса, как это со статьями бывает через десять минут по прочтении, встала у нее перед глазами, вся целиком, вместе с комнатой сэра Николаса, его лицом, его кошкой, письменным столом и освещением дня), нет, я, конечно, так не сумею, продолжала она, рассматривая статью уже под этим углом зрения, – сидеть с утра до вечера в кабинете, да это и не кабинет никакой, а обшарпанная гостиная, сидеть в окружении хорошеньких мальчиков и рассказывать им анекдоты, но строго без передачи, о том, что Таппер сказал про Смайлза [57]; и потом (она уже горько рыдала), у них у всех такой мужественный склад; и потом – я терпеть не могу герцогинь, я ненавижу пирожные; и пусть я, положим, бываю стервозной, но никогда мне не научиться быть стервозной в такой уж степени, и как я стану критиком, как буду создавать образцы современной прозы? А, пропади все пропадом! – крикнула она и так пнула со стапелей игрушечный пароходик, что эта бедная посудина чуть не потонула в свинцовых волнах.
Тут надо заметить, что, когда вы не в настроении (как выражаются няни) – а слезы все еще стояли в глазах у Орландо, – предмет, на который вы смотрите, не остается собой, но превращается в другой предмет, гораздо больше и важней, хотя он как будто и тот же. Если вы посмотрите не в настроении на Серпантин, его волны станут огромными, как на Атлантике; игрушечные лодочки сделаются неотличимыми от океанских лайнеров. И Орландо спутала игрушечный кораблик с бригом своего супруга, а поднятую собственной ногой волну приняла за водяную глыбу у мыса Горн; и, глядя на взбирающуюся по зыби игрушку, она видела, как корабль Бонтропа взбирается по огромной стеклянной стене: он взбирался все выше и выше, над ним нависал смертельный гребень, он скрылся в смертоносной пучине. «Утонул!» – ахнула она в ужасе, но вот он, целый и невредимый, показался среди уточек по ту сторону Атлантического океана.
– Какое счастье! – крикнула она. – Какое счастье! «Где тут телеграф? – подумала она. – Надо срочно телеграфировать Шеллу, ему рассказать…»
И, повторяя попеременно «лодочка на Серпантине» и «счастье», каковые понятия были нерасчленимы и означали в точности одно и то же, она заторопилась к Парк-лейн.
– Лодочка, лодочка, лодочка, – повторяла она, все более уверяясь, что не статья Ника Грина о Джоне Донне, не восьмичасовой рабочий день, не закон об охране труда на свете самое главное, но что-то тщетное, дикое, буйное, за что отдаешь жизнь; красное, лиловое, синее; взмет, всплеск, как эти гиацинты (она шла мимо клумбы); свободное от грязи, зависимости, людской заразы, заботы о себе подобных; нелепое и смешное, «как мой гиацинт, ой, что я, мой муж Бонтроп: вот оно, вот – игрушечная лодочка на Серпантине, счастье – счастье». Так она говорила вслух, пережидая движение у Стэнхоуп-гейт, потому что, когда живешь с мужем только в безветрие, начинаешь вслух говорить глупости на Парк-лейн – это неизбежно. Живи она с ним круглый год, в любую погоду, как предписывала королева Виктория, – тогда бы дело другое. Ну а так мысль о нем в нее вдруг ударяет молнией. Хочется непременно, немедленно с ним поговорить. Ей было решительно все равно, какой у нее получится вздор и – как это губительно повлияет на повествование. Статья Ника Грина повергла ее в пучину отчаяния, игрушечная лодочка на Серпантине подбросила ее на вершины восторга. И она повторяла: «Счастье, счастье», стоя и пережидая уличное движение.
Но движение в этот весенний вечер было густое, и она долго стояла на тротуаре, повторяя «счастье, счастье» и «лодочка на Серпантине», покуда власть и богатство Англии, как отлитые в плащах и цилиндрах, сидели по пролеткам, викториям и ландо. Будто золотая река застыла и золотыми брусками перегородила Парк-лейн. Дамы держали в руках коробочки с визитными карточками; господа поигрывали золотыми набалдашниками меж колен. Она стояла восхищенно, благоговейно. Только одна-единственная мысль ей мешала, мысль, знакомая всякому, кто наблюдал огромных слонов или китов невозможных размеров, а именно: как исхитряются эти левиафаны, которым, очевидно, претит всякое волнение, перемена, движение, как исхитряются они производить себе подобных? Вероятно, думала Орландо, глядя на величавые, недвижные лица, время размножения для них миновало: это плоды, свершение; то, что она наблюдала, – триумф эпохи. Сидят – торжественные, роскошные. Но вот полицейский уронил руку – поток тронулся, хлынул. Монолит великолепных предметов раскололся, рассеялся, скрылся на Пиккадилли.
И она пересекла Парк-лейн и вошла в свой дом на улице Керзона, где при цветении таволги можно будет вспомнить про карканье дупелей и очень старого человека с ружьем.
Можно вспомнить, думала она, переступая порог своего дома, что говорил лорд Честерфилд, – но у нее вдруг отшибло память. Тихая прихожая восемнадцатого века – где лорд Честерфилд (она так и видела) вот сюда клал шляпу, вот сюда вешал плащ, столь изящно, великолепно, что одно наслаждение смотреть, – вся была завалена свертками. Пока она сидела в Гайд-парке, книгопродавец исполнил ее заказ, и дом был буквально забит – пачки сваливались с лестницы – полным собранием викторианской литературы, обернутой в бумагу и аккуратно перевязанной веревками. Она захватила в спальню сколько могла унести, приказала лакею принести остальное и, поспешно разрезав несчетные веревочки, тут же оказалась в окружении несчетных томов.
Привычная к малым литературам шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков, Орландо ужаснулась последствиям своего заказа. Потому что для самих викторианцев великая литература означала вовсе не четыре великих, раздельных, четко выделенных имени, но четыре великих имени, вкрапленных и погруженных в массу Смитов, Дик-сонов, Блэков, Милманов, Боклей, Тэнов, Пейнов, Тапперов, Джеймсонов [58] – громких, шумных, выдающихся и требовавших к себе не меньше внимания, чем все остальные. Благоговение Орландо
56
Чарльз Лэм (1775 – 1834) – знаменитый эссеист; разработал жанр романтического, поэтического очерка; мастер стиля.
57
Мартин Фаркар Таппер (1810 – 1889) – автор «Философии в пословицах» (рифмованных банальных изречений, имевших огромный успех у публики); Сэмюэл Смайлз (1812 – 1904) – популярный автор жизнеописаний и нравоучительных трактатов.
58
Александр Смит (1830 – 1867) – популярный поэт своего времени, часто пародируемый; Ричард Уотсон Диксон (1833 – 1900) – лирик, историк Церкви; Уильям Блэк (1841 – 1898) – плодовитый романист; Генри Харт Милман (1791 – 1868) – автор стихотворных драм и истории евреев; Генри Томас Бокль (1821 – 1862) – автор «Истории цивилизации в Англии»; Ипполит Тэн (1828 – 1893) – французский философ, историк и критик; Джон Говард Пейн (1791 – 1852) – американец, автор популярных песен, или Джеймс Пейн (1830 – 1898) – автор многочисленных романов; Анна Джеймсон (1794 – 1869) – плодовитая эссеистка, писавшая о женских проблемах, а также литературный критик.