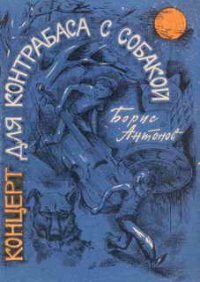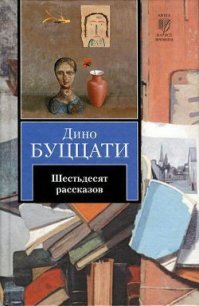Арбат, режимная улица - Ямпольский Борис Самойлович (мир книг txt) 📗
Теперь сержант взглянул на меня, но мельком, словно проколол и пропустил. И прошел дальше.
— Цыц, вот я тебя милиционеру отдам, — сказала баба проснувшемуся ребенку. И тот замолк, завороженно глядя на синий сон с малиновыми кантами.
У теплой вентиляционной решетки метро стояла и грелась замерзшая девчушка в меховой жакетке и туфельках на микропорке, худенькая, с охальным курносым личиком, кукольно-порочным, зеленоглазая, замерзшая и веселая, продувная. Она дерзко-небрежно поглядывала на проходящих командировочных пузачей с разбухшими портфелями, разных там пижонистых чуваков, фыркала и вдруг кому-то молодому и симпатичному ликующе выдавала нежную, детскую улыбочку.
Она посмотрела на меня и как-то удивленно повела бровями, словно передала таинственный знак.
Я замедлил шаг, взглянул на часы и остановился, серьезно и озабоченно поглядел в широкое окно на улицу, будто ожидая кого-то, будто кто-то обязательно вот-вот должен подойти.
Это была одна из тех блуждающих девчонок, из того сиротского, горького легиона приезжающих зайцем и по билетам с плацкартой для поступления в кинозвезды, из которых бедные непризнанные художники подбирают натурщиц-любовниц.
Нет у них ни жилья, ни прописки, а иногда еще и паспорта нет, одна метрика. И ночуют они у случайных подруг, у случайных старушек в каморках лифтерш и татар-дворников, а то, бывает, и просто у прохожего мужчины, а иногда и на лестничной клетке, на самой верхотуре, где и квартир нет, лишь глухой проход на чердак.
Замечено, что подбираются они обычно по росту и меняются туалетами. Смотришь, жакетик или юбчонка из пледа с бахромой, или бронзовая лошадка на цепи то на одной, то на другой.
По утрам они собирались обычно скопом из разных районов города, где они продремали эту ночь, кроме тех, которые как раз в это утро были вызваны в киностудию открыткой, или шли по объявлению или личному приглашению случайно встреченного режиссера, или оператора, или директора, или ассистента, или осветителя, или просто случайного жулика, кроме тех, которые именно в это утро восседали на троне где-то в Сретенском переулке, или на Масловке, или в Измайлове, обнаженные, дрожа от холода, позируя художнику или измазанному гипсом или глиной скульптору, который по молодости лет, увлечению и горячке работы не замечал холода; кроме тех, которые в это утро толпились у дверей отдела кадров ЦУМа, или Дома моделей на Кузнецком, или же на актерской бирже на Неглинной, в этой шумной, дикой сутолоке, нанимаясь в советские герлс, в дикие мюзик-холлы, левые джазы, снегурочки, в Кимры, Арзамас, Чарджоу. Так вот остальные собирались ранним утром скопом на заранее уже договоренном месте, на Центральном телеграфе или Центральном почтамте на Кирова, или в какой-нибудь пирожковой или пельменной на Петровке, где было тепло, и, собравшись и сложив выбранную, выкарабканную из всех карманов мелочь серебром, а иные даже бумажками, складывались, и пили чай с горячими пирожками, и рассуждали, и советовались, и планировали, как и где им провести сегодня день, и тут же в туалетной менялись кофточками и туфлями или джемпером.
Потом забегают в комиссионку, хотя в сумочках только пачка „Шипки" и коробочка спичек, а вечерами сидят в коктейль-холле высоко на вертящемся табурете, заложив ногу за ногу, с сигареткой в зубах, сосут из соломки зеленоватый, с плавающим желтком, коктейль и рассуждают:
— Я утончила ему образ.
— А мне завтра лицо нести, — грустно отвечает другая.
Ночью их никогда нельзя было встретить вместе, в одной компании. Они разбредались по всему городу, правда, главным образом в пределах Садовой, где в коммунальных квартирах, в комнатушках жили эти художники, режиссеры, опереточные актеры, адвокаты, либреттисты, танцоры, авторы скетчей, скульпторы, юрисконсульты, синхронные переводчики, люди свободных профессий, старые и молодые холостяки.
Я все смотрел в окно. Хлопьями падал снег, на тротуаре было пусто и дико, я искоса осторожно поглядел на девчурку, и она, как бы уже готовая к этому, как бы заранее все разыграв в своей душе, откровенно и весело улыбнулась: „И никого ты не ждешь, скорее иди сюда, поговорим, мне ведь тоже одиноко и тошно".
Я понял и той же азбукой Морзе передал: „Иду". И двинулся, как на свет светлячка.
— Здравствуйте, добрый вечер, — сказал я.
— Приветик, — ответила девчурка.
Подтаявшие, мокрые от снега ресницы потекли черным, и, глядя в зеркальце, она сделала маленький ремонт.
— Греемся? — сказал я.
— Ага.
Она вынула из кармана пару карамелек, одну кинула в рот, другую дала мне.
— Долгоиграющая, — сказала она.
Стекляшка была мятная, холодная и долго не таяла во рту.
— Как вас зовут? — спросил я.
— А вас? Я сказал.
— А мое имя есть в опере „Евгений Онегин". Угадайте.
— Татьяна?
— Молодец, — удивилась она.
— А где вы, Танюша, живете? — спросил я.
— Любовник, мерзавец, женился, — беззлобно сказала она и рассмеялась.
— А где же вы ночевать будете?
— А вы живете один? — спросила она.
В пустынном вестибюле метро неожиданно появился какой-то белый от снега ферт в шапке „пирожком". Он сразу же, с ходу не понравился мне (только отчего шапка-„пирожок", они ведь все ходят в ушанках, а может, этот высшего разряда?).
Мокрый снежный ферт крупными деятельными шагами прошел к телефону-автомату, закрылся в будке и стал набирать какой-то номер. Он звонил ужасно долго, но ни разу не говорил. Я хорошо видел, что он даже ни разу не открывал рта, бросал монету, набирал номер, но то ли было занято, то ли просто не отвечали, вешал трубку и тут же начинал все сначала. И почему-то все казалось, что поверх диска он глядит в нашу сторону.
— Чего ему от нас надо? — сказал я.
— Плевать, — сказала Таня.
Она нагнулась и, поправляя чулок, неловко, как бы случайно чуть выше приподняла юбчонку, и над чулком синела голубая наколка: „Как мало прожито годов, как много сделано ошибок".
— Может, это за тобой? — спросил я. Она пожала плечиками и рассмеялась:
— А я не боюсь.
Ах, если бы и я мог так же нахально, щебечуще, отвлеченно сказать: „Я не боюсь".
Нет, я боялся, я очень боялся, и все, вызванное случайной встречей, радостное возбуждение, вернувшее меня на миг в тот давний, привычный и уютно-веселый мир легкомысленной жизни, сразу остыло и растаяло, и осталась только эта круглая, уже ненавистная физиономия за стеклом автомата, как заведенная кукла, беспрерывно крутившая диск.
— Ну, однако, я пошел, — сказал я.
— Куда? — удивилась Таня. — И зачем?
— Надо.
Я сбежал вниз в метро и в конце коридора еще раз оглянулся, не увязался ли за мной ферт в „пирожке".
На самом ли деле ему надо было так экстренно ночью звонить и он не мог дозвониться и нервничал там, в кабине, или он просто разыгрывал комедию и ждал меня или же ждал ее, пока она освободится, пока я с ней договорюсь или не договорюсь, пока я не надоем ей и она увидит, что с меня нет никакого толка, и обратит внимание на него. И для.этого он поворачивался там в кабине, показывал анфас и профиль свой каракулевый „пирожок". Интересно, что было, когда я ушел, улыбнулась ли она ему той же улыбкой и глядела на него теми же родственными глазами, что и на меня, тут же начисто, навсегда забыв о моем существовании.
Метро уносило меня вдаль, за окном только вспыхивали, гасли и пропадали туннельные огни, и поезд останавливался, кто-то входил, и кто-то выходил, и проплывали освещенные платформы, белый и красный мрамор.
В метро непонятно каким образом залетел воробей и проник на платформу. Это был обыкновенный серый городской воробушек, испуганно-взъерошенный, несчастный, и дежурный в красной фуражке гикал на него и гонял сигнальной указкой, словно он грозил крушением поездов. А воробушек юрко и ловко летал между мраморными колоннами с прислонившимися к ним скульптурными символами современного общества. Испуганный, взлохмаченный, он сел сначала на фонарь шахтера, потом перелетел на круглую шляпу сталевара, потом сел на автомат пограничника, потом спрятался за собакой партизана. Пассажиры, останавливаясь, наблюдали затейливую эту охоту. Воробушек взвился наконец вверх и долго бился о каменные своды и не мог, никак не мог найти выхода в синее небо.