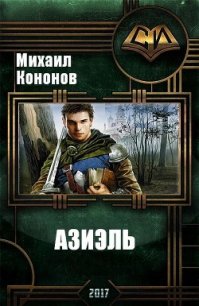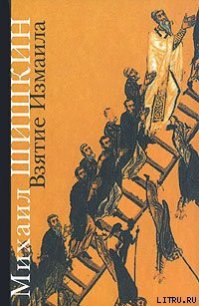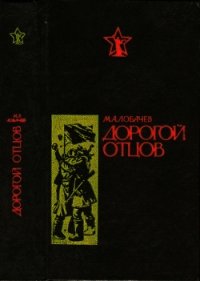Голая пионерка - Кононов Михаил Борисович (читаем книги бесплатно .TXT) 📗
И вот Муха снова, снова, снова летит над родным Ленинградом!
Отпустят в этот раз – или не отпустят? Вот уже и площадь Восстания пролетела, Старо-Невский внизу, Александро-Невская лавра впереди торчит. Неужели без увольнения оставят?
«Одна нога здесь – другая там! – голос у генерала Зукова теперь недовольный, ворчливый, но снова Чайка различает за напускной строгостью добрую его улыбку. – Три минуты на все!… Чайка, Чайка, я – Первый! Ррразрешаю тррехминутную самовольную отлучку! Сборный пункт – Дворцовая площадь.
Повторяю: через тррри минуты прррибыть на Дворцовую! Свободна!»
Свободна!!!
А он-то, лапочка такая, чему радуется, да голосом играет раскатисто этак, да смех сдерживает едва? До чего хороший все-таки человек, до чего родным стал за эти месяцы – жуть!…
Завернув тройное сальто, Чайка бросается вниз, как на лыжах с горы. Темные улицы скользят под ней назад и вверх. Остаются позади клубящиеся пожары, ослепляющие пятна гигантских прожекторов, широкие полотнища дыма и облака пепла. Домой!
Окно своей комнаты в пятом этаже старинного дома на углу Суворовского проспекта и Седьмой Советской улицы Чайка нашла бы и с закрытыми глазами. Приникнув на миг к стеклу, заклеенному, чтоб не лопнуло сдуру от близкого взрыва, еще мамой или Лизаветой Родионовной крест-накрест полосками газетной бумаги, она уже чувствует, что в комнате есть живое тепло. Люся жива! И только теперь понимает Чайка, какая тоска мучила ее с позапрошлой ночи, а теперь вот ушла. Прошлую-то ночь ей уснуть не удалось. Накануне как раз в роту влилось пополнение, и уже с полуночи вплоть до самого подъема курносый маленький лейтенант плакал у нее на груди, рассказывал о своей первой любви, прекрасной десятикласснице Клеопатре Тютько, которая оказалась коварной изменщицей и провожать его на фронт не явилась. Лукич дежурил на передовой, и она не препятствовала курносому рыдать в полный голос. Муха уж и гимнастерку стащила с себя, и трусы, чтобы он обратил, наконец, внимание на девушку, отнесся бы скоренько по-человечески и не мешал больше спать. Но лейтенанту срочно надо было пораспускать сопли – прямо эскренно, бляха-муха! Иногда спрашивал: «Жарко тебе, да? Ничего, я сейчас, только доскажу тебе все до конца – и уйду. Потерпишь, а? Ну что тебе стоит!» Всю ночь с ним, трепачом, глаз не сомкнула. Курносый бубнил ей в подмышку промокшую, а она все ломала себе голову, не понимая, куда могла подеваться бестолковая Люся. Потому что в позапрошлую ночь Чайка чуть не опоздала на Дворцовую площадь, облазала всю квартиру, буквально, в каждую щель просочилась, но так ее и не нашла. Что за притча? Убили, съели? – как ту девочку с голубым бантиком. Так ведь пустая квартира, опечатанная даже, все соседи в эвакуации. Кстати, если печать на двери висит, значит и воры не забрались до сих пор, так? Не могла же Люся улететь через дырочку в углу рамы – она не Чайка пока что. Прямо какой-то дурной сон, честное слово! Вот, кстати, лужица на кухне, под раковиной, – от жажды, значит, не могла она умереть. Неизвестно, конечно, каким чудом еще сочится вода специально для Люси, когда нигде уже водопровод не работает, но если бы не подтекала ржавая труба, не выжить бы Люсе, факт. Нет, она где-то здесь: какашки ее лежат в углу комнаты, есть и свежие. Хорошенькие такие какашечки, продолговатые, как косточки фиников довоенных. Жива, жива старушка! Да где же она, зараза такая, бляха-муха! Не для того же она, чудачка, в самом-то деле, полтора года голода пережила на страх врагам, чтобы пропасть ни за понюшку табаку, когда уже вот-вот прорвана будет блокада. Ведь глупо же! И сухарей вон в шкафу еще три мешка нетронутых, на десять лет насушить успели родители перед проклятой своей командировкой разбомбленной, царство им небесное, – если, конечно, учесть скромные Люсины аппетиты… Люська, вылезай же! Не в булочную же ты пошла, в самом деле, не на рынок, соображать надо все-таки хоть чуть-чуть, товарищи дорогие!… Да что толку кричать, если нет у тебя во сне ни гортани, ни голоса, один дух святой, извините за выражение…
И все же целых двое суток после своей Чайкиной ленинградской самоволки Муха кляла себя и грызла поедом, что так и не обнаружила в пустой квартире Люсю – ни живую, ни мертвую. А теперь, у окна родного, ей стало легко, как в осенний вечер сорокового года, когда внесла Люсю в дом, уже заранее зажмуриваясь от предстоящего крика мамы: «Этого нам еще не хватало!!!»
Чайка всматривалась сквозь стекла, но в комнате было темно. Она скользнула вдоль рамы окна и плавно перетекла в комнату сквозь треугольную дырочку, где уголок стекла был отколот еще до ее рождения. Всю жизнь собирался папочка заменить стекло, даже алмаз купил стеклорезный на барахоловке, да так руки и не дошли: секретный работник, понятно, то ночью ни с того ни с сего по тревоге поднимут, пришлют нарочного, то в выходной телефон зазвонит с утра, он в трубку сразу: «Слушаюсь!» – кепку на затылок, браунинг в карман – и ждите через неделю в лучшем случае. Сколько раз мамочка смеялась: «Не судьба тебе, батька, окном заняться, вся жизнь наша с тобой – эскренная!» Зато теперь Мухе, уже Чайкой будучи и фактически являясь, ничего не стоит попасть к себе домой без ключа. Она скользнула в щель между черными защитными шторами. Ну вот и дома!
Пролетая над письменным столом, она нежно коснулась обложки своего учебника истории, заглянула в пересохшую чернильницу-невыливайку, тронула неосязающими губами свое ситцевое платье на вешалке – синее, в белый горошек, мамочка сама шила. Запах детства уже едва пробивался сквозь пыль запустенья. В легком и редком свете своего искрящегося зыбкого тела, зримого ей здесь без освещения так ясно, что Чайку почти пугают длинные, змеящиеся пальцы голубых и все же прозрачных ее рук и долгие ноги, сросшиеся к тому же чуть ли не в русалочий хвост, – видна зато каждая горошинка на платье, и знакомый узор на обоях, пятиконечные красные звездочки на желтых кружочках, и даже шрамы-царапины на дверце шкафа: МАША. Первые свои кривые буквы в жизни выцарапала ключом от комнаты – в тот же день, когда папа впервые показал, как пишется ее имя. Мама отшлепала Муху и поставила в угол. А теперь Чайке странно и смешно вспоминать, с каким восторгом пятилетняя Муха процарапывала кривые палочки, продираясь сквозь мебельный лак и волокна жесткого дерева. Ну что такого особенного? М-А-Ш-А. То ли дело – Чайка! Чай-ка! Гордый высокий крик, мечущийся меж облаков в чистом небе. Чайка! – и черный дракон улепетывает во все лопатки на свой секретный аэродром, – знает кошка, чье мясо съела, как Сталин писал. Что ж, на то она и Чайка!…
На обеденном столе, прижатая солонкой, белела мамина записка. Протянув руку, Чайка осветила тетрадный листок собственным светом пальцев и ладони – как карманным фонариком. Проступили из темноты слова, которые Чайка помнила уже наизусть:
Доча!
Мы с папой вирнемся недели через две, уезжаем эскренно аллюр три креста. Если приедешь, а нас еще нет масло на кухне за окном макароны в буфете отварены, масла не жалей когда разогревать станишь не жмотничай. Без нас ерундистикой не занимайся срач в комнате не разводи, и не спорь с Лизаветой Родионовной, веди культурно в рамочках. За Люсей убирай как полагается, чисти зубы утром и вечером не ленись. Главное помни ты должна стать придметом нашей гордости, мы на тебя надеемся. Цулуем нашу Мушку.
Папа и мама.
Ниже приписано:
Р. С. Папа приказывает тебе не отдавать ни под каким видом мясо из супа Люсе так как ввиду того что в ближайшее время с питанием в городе будет архиплохо. Так что рубай свой паек сама наедайся впрок. А немца мы с папой, скоро прогоним, вернемся домой и в первое же воскресенье, пойдем в зоопарк на каруселях кататься все вместе. Будь умницей!
В углу комнаты послышался чмокающий писк.
Как последний лоскуток пламени над догорающей дровинкой, тихо светилась лунно-синеватая подковка над головкой Люси.
Приподнявшись, Люся замерла, как свечечка, смешно поводя тонкими ручками, пробуя, поталкивая, теребя пустую темноту перед собой. Чует! Или – неужели?! – видит свою хозяйку, как сама она, невидимая, видит Люсю. А хотя бы и видит – кому какое дело! Ведь если Муха не умела видеть Люсин слабенький светик, пока Чайкой не стала, это ж не значит, что и Люся всегда была такой же слепой фактически, верно? Вот летучие мыши, например, ориентируются как-то вслепую даже и в полной тьме своих пещер, да и кроты под землей, не говоря уже о простых дождевых червяках, у которых вообще глаз нет, – даже они находят каким-то духом свою дорогу, не сбиваются с жизненного пути, как говорится, – безо всякой помощи посторонней. Да ведь и Чайка уже представить себе не может, как и жила-то день и ночь, не видя настоящего света людей, животных, млекопитающих и всяких ботанических цветов, – до того привыкла к разноцветной красоте. А Люсе, может, и привыкать было не нужно, родилась такая. Почему нет? Во сне ведь все возможно.