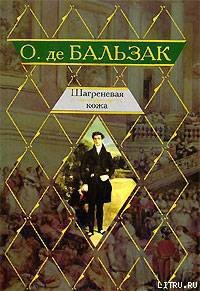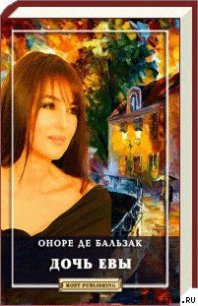Модеста Миньон - де Бальзак Оноре (лучшие книги без регистрации .TXT) 📗
— Герцогиня мстительна! — заметил Лабриер.
— Как королева, по словам Филоксены. Она до сих пор не может простить герцогу, что он всего-навсего ее муж. Она умеет так же сильно ненавидеть, как и любить. Я хорошо осведомлен о ее характере, набожности, слабостях, туалетах, вкусах, так как Филоксена сняла ради меня все покровы с ее души и тела. Я пошел в Оперу, чтобы увидеть госпожу де Шолье, и не пожалел о своих десяти франках (я говорю не о спектакле). Не скажи мне моя мнимая кузина, что ее хозяйка прожила пятьдесят весен, я счел бы себя чрезвычайно щедрым, дав ей тридцать лет. Годы еще не коснулись этой женщины!
— Да, — заметил Лабриер, — это камея, сохранившаяся благодаря своему каменному сердцу... Каналис будет весьма смущен, если герцогиня узнает о его планах... Надеюсь, сударь, вы прекратите свое шпионство, недостойное порядочного человека...
— Сударь, — сказал Бутша с гордостью, — для меня Модеста — государство. Я не занимаюсь шпионством, я предвижу! Герцогиня приедет сюда, если это понадобится, или будет спокойно жить в Париже, если я сочту это удобным...
— Вы?
— Я.
— Каким же образом? — спросил Лабриер.
— Вот взгляните, — сказал маленький горбун, срывая какой-то стебелек. — Этот злак воображает, будто люди строят свои дворцы специально для него, и что ж! — в конце концов он разрушает самые прочные мраморные стены, подобно тому, как народ, проникнув в здание феодализма, опрокинул его. Могущество слабого, который может всюду пробраться, превосходит могущество сильного, опирающегося на пушки. Нас трое швейцарских стрелков, и мы все дали клятву, что Модеста будет счастлива. Ради этого мы готовы пожертвовать даже честью. Прощайте, сударь. Если вы любите Модесту де Лабасти, забудьте об этом разговоре. Разрешите пожать вашу руку, — кажется, у вас есть сердце... Мне не терпелось взглянуть на Шале, я пришел сюда в ту минуту, когда она потушила свечу; собаки дали мне знать о вашем приближении, и я услышал ваши гневные слова; поэтому я взял на себя смелость сказать вам, что мы служим в одном и том же полку, под знаменем рыцарской преданности!
— В таком случае, — ответил Лабриер, пожимая руку горбуну, — я попрошу вас о дружеской услуге: скажите мне, любила ли кого-нибудь мадемуазель Модеста до своей тайной переписки с Каналисом?
— Что вы! Всякое сомнение оскорбительно! — глухо промолвил Бутша. — И даже теперь кто может знать, любит ли она? Знает ли это она сама? Она увлеклась умом, талантом, душой этого продавца стансов, этого торговца литературными снадобьями. Но она его разгадает, — мы разгадаем его. Я сумею заставить поэта проявить свой подлинный характер, я заставлю его сбросить маску светского человека, и тогда мы увидим его маленькую голову гордеца и честолюбца, — сказал Бутша, потирая руки. — И если только Модеста не полюбит его до безумия...
— Она пришла от него в восторг, словно от какого-то чуда! — воскликнул Лабриер, невольно выдавая свою ревность.
— Если он славный, честный человек, если он любит Модесту и достоин ее, и при всем этом откажется от герцогини, — продолжал Бутша, — тогда я обведу вокруг пальца герцогиню. Послушайте, сударь, вам надо идти вот по этой дороге, и через десять минут вы будете дома.
Однако Бутша тут же вернулся и окликнул несчастного Эрнеста, который, как подобает влюбленному, мог провести целую ночь в разговорах о Модесте.
— Сударь, — сказал ему Бутша, — я еще не имел чести видеть нашего великого поэта, а мне хочется понаблюдать за этим поразительным феноменом при исполнении им обязанностей салонного говоруна. Окажите мне услугу и приезжайте послезавтра провести вечер в Шале; оставайтесь подольше, так как за один час человека не раскусишь. Я первый узнаю, любит ли Каналис, может ли он полюбить и полюбит ли Модесту.
— Вы слишком молоды для того...
— Чтобы быть сердцеведом? — докончил Бутша мысль Лабриера. — Эх, сударь, все уроды родятся столетними стариками. Потом, видите ли, когда человек долго болеет, он становится более сведущим, чем сам врач, начинает понимать свою болезнь, что не всегда случается даже с добросовестными докторами, и в конце концов выздоравливает. То же происходит с мужчиной, когда он любит женщину, а она его презирает по причине безобразной внешности или горба: он начинает так хорошо разбираться в любви, что его принимают за соблазнителя. Одна только глупость человеческая неизлечима... В шесть лет (мне сейчас двадцать пять) я остался сиротой. Общественная благотворительность служила мне матерью, королевский прокурор — отцом. Не беспокойтесь, — проговорил он в ответ на жест Эрнеста, — я гораздо веселее, чем мое положение... Так вот, с шестилетнего возраста, когда дерзкий взгляд прислуги госпожи Латурнель дал мне почувствовать, что я не имею права любить, я люблю и изучаю женщин. Я начал с некрасивых: быка надо брать за рога. Вот почему первым объектом своих наблюдений я выбрал жену моего патрона, которая, без сомнения, относится ко мне безупречно. Возможно, я поступил нехорошо, но, что поделаешь, я разобрал ее характер до тонкости и кончил тем, что открыл странную уверенность, притаившуюся в глубине ее сердца: «Я не так некрасива, как это думают!» И, несмотря на истинное благочестие госпожи Латурнель, я мог бы, играя на этой струнке, привести ее на край пропасти... и столкнуть туда.
— А Модесту вы тоже изучали?
— Я уже говорил вам, кажется, — возразил карлик, — что моя жизнь принадлежит ей так же, как Франция принадлежит королю! Понимаете ли вы теперь, зачем я занимался в Париже шпионством? Никто не знает лучше меня, сколько благородства, гордости, преданности, непосредственности, неисчерпаемой доброты, истинной веры, веселья, знаний, чуткости, приветливости заключено в душе, сердце и уме этого очаровательного создания!..
Бутша вынул платок, чтобы смахнуть слезу, и Лабриер долго жал ему руку.
— Я буду жить в ее сиянии! Каждое ее чувство находит отклик во мне. Видите, до чего крепко мы связаны, почти как природа и бог — светом и глаголом. Прощайте, сударь... Ни разу за всю мою жизнь я так много не болтал; но, увидев вас перед ее окнами, я понял, что вы ее любите по-моему.
Не ожидая ответа, Бутша оставил несчастного влюбленного, чье сердце преисполнилось радостью после этого разговора. Эрнест решил подружиться с Бутшей, не подозревая, что за многословием клерка скрывалось желание найти союзника в доме Каналиса. Какие только мысли, решения, планы не чередовались в голове Эрнеста, отгоняя сон! А его друг Каналис спал сном триумфаторов, сладчайшим после сна праведников.
За завтраком оба друга сговорились провести вечер следующего дня в Шале и впервые принять участие в провинциальном развлечении — в партии виста «по маленькой». Но чтобы скоротать время, они приказали оседлать лошадей, ходивших также в упряжке, и объехали окрестности, о которых они имели такое же смутное представление, как о далеком Китае, потому что Францию хуже всего знают сами французы.
Раздумывая о своем положении несчастного и презираемого вздыхателя, Эрнест занялся почти таким же разбором своих переживаний, как после вопроса, заданного Модестой в начале переписки. Несчастью приписывают свойство развивать добродетели, но оно развивает их только у добродетельных людей; поэтому такой чисткой совести занимаются лишь те, кто обладает врожденной нравственной чистоплотностью. Лабриер дал себе слово переносить все страдания со стойкостью спартанца, сохранять свое достоинство и ни в коем случае не унижаться до подлости, меж тем как Каналис, ослепленный огромным приданым, решил ничем не пренебрегать ради того, чтобы пленить Модесту. У одного основной чертой была преданность, у другого — эгоизм, и в силу нравственного закона, довольно странного по своим последствиям, они привели этих двух людей к намерениям, противоположным их натуре. Человеку, занятому исключительно собой, предстояло разыграть самоотверженность, тогда как человеку, готовому все сделать для других, — удалиться на Авентинский холм [88] гордости. Это явление наблюдается также в политике. Люди, причастные к ней, нередко выворачивают свой характер наизнанку, а публика теряется в догадках, не зная, какая же сторона лицевая.
88
Авентинский холм — один из семи римских холмов, на который, по рассказу римского историка Тита Ливия, в 494 году до н. э. удалились римские плебеи в знак протеста против несправедливой политики патрициев.