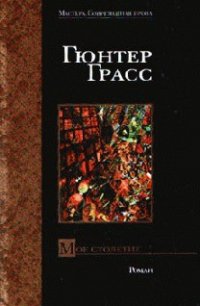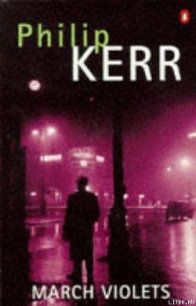Собачьи годы - Грасс Гюнтер (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно .TXT) 📗
По-моему, я был счастлив тогда, сидя в пижаме у нашего кухонного окна. От сливового мусса зубы у меня заиндевели. В спальне родителей настырный будильник приканчивал отцовский сон. Внизу машинному мастеру пришлось прикурить еще раз. Харрас приподнял веки. Тулла позволила миске скатиться с лица. Миска упала на песок. Она не разбилась. Тулла медленно опустилась на обе руки. Несколько крупных опилок, выплюнутых сварливой фрезой, лежали перед ней желтыми крошками. Как и прежде, от бедра, она повернулась примерно на девяносто градусов и вползла – грузно, тягуче, сыто – в косую солнечную полосу, дотащила солнце на спине до конуры, на пятачке перед лазом в конуру развернулась и задним ходом, свесив голову и волосы, вместе с плоским, золотящим волосы и опилки солнцем, протиснулась внутрь.
Только тут Харрас снова закрыл глаза. Вернулись пестрые мухи. Мои заиндевелые зубы. Его черный, встопорщенный вокруг ошейника воротник, который никаким светом не высветлить. Утренняя возня моего встающего отца. Воробьи вразброс вокруг пустой миски. Клочок ткани, бело-голубой, в клеточку. Пряди волос золотистое мерцание опилки лапы мухи уши сон утреннее солнце: рубероид нагревался и начинал пахнуть.
Машинный мастер Дрезен тронул наконец велосипед и повез его к полузастекленной двери машинного цеха. На ходу он медленно качал головой – слева направо и справа налево. В машинном цехе его ждали дисковая пила, ленточная пила, фреза, выпрямитель и строгальный станок – остывшие и изголодавшиеся. Отец в туалете сосредоточенно кашлял. Я тихонько сполз с кухонной табуретки.
К вечеру пятого дня Туллы в собачьей конуре, в пятницу, столярных дел мастер попытался стронуть Туллу с места. Его пятнадцатипфенниговая сигара «Фельфарбе» торчала по отношению к его добропорядочному лицу под прямым углом и каким-то образом скрадывала – отец стоял в профиль – выпуклость его пуза. Этот статный человек сперва уговаривал Туллу по-хорошему. Доброта – лучшая приманка. Потом он заговорил требовательней, раньше времени уронил столбик пепла с дрогнувшей сигары, отчего выпуклость пуза сразу обозначилась резче. Он пригрозил наказанием. Когда он переступил полукруг, радиус которого был отмерян собачьей цепью, и вынул из карманов свои сильные мастеровые руки, Харрас в брызгах опилок вылетел из конуры, натянул цепь и передними лапами бросил всю свою смоляную черноту прямо столярных дел мастеру на грудь. Мой отец покачнулся назад и побагровел с лица, на котором все еще, но уже не слишком отчетливо различался остаток сигары. Он схватил обрешеточную рейку из тех, что стояли возле пильных козел, но Харраса, который без всякого лая упруго испытывал цепь на разрыв, бить не стал, предпочел опустить свою мастеровую руку с рейкой, а отлупил лишь полчаса спустя, и не рейкой, а голой рукой, ученика Хоттена Шервинского, потому что Хоттен Шервинский, согласно рапорту машинного мастера, своевременно не чистит и не смазывает фрезу; кроме того, утверждалось, что вышепоименованный ученик присвоил дверные петли и килограмм дюймовых гвоздей.
Следующий день Туллы в собачьей конуре, уже шестой, был субботним. Август Покрифке в своих деревянных башмаках составил вместе пильные козлы, убрал Харрасовы какашки и принялся подметать и разрыхлять граблями двор, оставляя на песке не то чтобы безобразные, а просто глубокие и незамысловатые узоры. С ожесточением он снова и снова водил граблями возле опасного полукруга, отчего взрыхленный песок в этом месте становился все темней. Тулла не показывалась. Писала она, когда ей приспичивало – а она привыкла мочиться примерно раз в час, – прямо в опилки, которые Август Покрифке каждый вечер так и так менял. Однако вечером шестого Туллиного дня в собачьей конуре он не рискнул обновить опилочное ложе. Как только он в своих стоеросовых деревянных башмаках, с совком и березовым веником, с корзиной, полной мельчайших опилок из-под фрезы и шлифовального станка, сделал первый мужественный шаг через разрытый лапами полукруг, обозначив свое присутствие и намерение привычной, ежевечерне повторяемой присказкой «умница, умница, будь умницей» – из конуры донеслось не то чтобы злобное, а скорее предупредительное рычание.
В ту субботу опилки в собачьей конуре поменять не удалось; не удалось Августу Покрифке и спустить сторожевого пса Харраса с цепи. Со злой собакой на привязи да при тощей луне столярная мастерская осталась на всю ночь считай что без охраны; но воры к нам не залезли.
В воскресенье, в Туллин седьмой день в собачьей конуре, у Эрны Покрифке созрела одна задумка. Эрна появилась после завтрака, левой рукой волоча за собой стул, четвертая ножка которого, пересекая вчерашние грабельные узоры Эрниного мужа, прорезала в них глубокую, решительную борозду. В правой руке она несла собачью миску, до верху наполненную бугристыми говяжьими почками и надвое разрезанными бараньими сердцами: сердечные желудочки выворачивали напоказ все свои аорты, связки, жилы и гладкие внутренние стенки. В почтительном шаге от полукруга, прямо против входа в конуру, она долго и тщательно устанавливала стул, потом, наконец, уселась и съежилась, вся скособоченная, кривая, с зыркающими крысиными глазками и маленькой, скорее обкарнанной, чем постриженной головкой, в черном воскресном платье. Из пристегнутой спереди матерчатой сумочки она извлекла вязанье и принялась вязать, наставляя острые спицы на собачью конуру, на Харраса и на свою дочь Туллу.
Мы, то есть столярных дел мастер, моя мать, Август Покрифке вместе с сыновьями Александром и Зигесмундом, полдня простояли у кухонного окна, глазея во двор то все скопом, то поодиночке. Да и в других квартирах в окнах, что выходят во двор, торчали сидя и стоя жильцы и дети жильцов – а в окне первого этажа одна, потому что одинокая, сидела старушка мамзель Добслаф и тоже глазела во двор.
Я сменить себя не давал и стоял безотлучно. Ни игрой в «братец не сердись», ни воскресным пирогом с корицей меня от окна было не оттащить. Стоял ласковый августовский день, а назавтра начиналась школа. Нижние створки наших двойных окон мы по настоянию Эрны Покрифке закрыли. Квадратные же верхние были слегка приотворены и впускали в нашу кухню-столовую свежий воздух вперемешку с мухами и гарканьем соседского петуха. Все шумы на улице, включая звуки трубы с Лабского проезда, где каждое Божье воскресенье какой-то чудак разучивал на чердаке одного из домов свои пассажи, то и дело менялись. Неизменным оставалось только тихое неживое шуршание, перестук, бормот, причмокивание и сюсюканье – какое-то въедливо-гнусавое, с присвистом, словно ветер гуляет в ветвях кошнадерского ольшаника, и перепляс бесчисленных спиц, жемчужные четки, скомканный лист разглаживается сам собой, мышка-норушка точит зубки, соломинка к соломинке жмется: мамаша Покрифке не просто вязала, наставив на конуру спицы, она ворожила, пришепетывала, шушукала, прищелкивала языком, стрекотала и присвистывала в ту же сторону. Я видел в профиль ее тонкие губы, ее скачущий, пилящий и вдалбливающий, то грозно выставленный, то кротко спрятанный подбородок, ее семнадцать пальцев и четыре неугомонные попрыгуньи-спицы, из-под которых в ее тафтяном черном подоле вырастало что-то голубенькое, предназначенное, безусловно, для Туллы – Тулла потом это и носила.
Собачья конура со своими обитателями не подавала признаков жизни. В самом начале, когда вязание и причитания только набирали силу и явно не думали прекращаться, Харрас вяло и не поднимая глаз вышел из будки. Зевнув до хруста и сладко потянувшись, он направился к миске с мясом, по пути, судорожно присев, выдавил из себя свою тугую колбаску, потом и лапу не забыл поднять. Миску он зубами подтащил к конуре, заглотал там, нетерпеливо пританцовывая задними лапами, говяжьи почки и бараньи сердца со всеми их вывернутыми изнанками, но при этом так искусно заслонял вход в конуру, что понять, отведала ли Тулла вместе с ним от сердец и почек, было невозможно.
К вечеру Эрна Покрифке вернулась в дом с почти готовой голубой вязаной кофточкой. Мы боялись спрашивать. «Братец не сердись» был срочно убран со стола. Пирог с корицей остался недоеденным. После ужина отец строго встал, сурово посмотрел на пейзаж маслом с кужской ольхой посередине и сказал, что пора наконец что-то с этим делать.