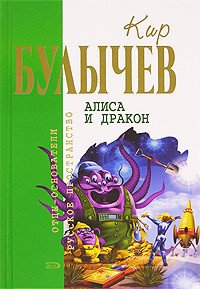Собрание сочинений в десяти томах. Том 3 - Толстой Алексей Николаевич (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
Будни
Морозы становились все крепче. Ледяными ветрами осыпало иней с деревьев. Снега покрылись твердым настом, по которому иззябшие и голодные волки, в одиночку и по двое, подходили по ночам к самой усадьбе.
Чуя волчий дух, Шарок и Каток от тоски начинали скулить, подвывать, лезли под каретник и выли оттуда тонкими, тошными голосами – у-у-у-у-у…
Волки переходили пруд и стояли в камышах, нюхая жилой запах усадьбы. Осмелев, пробирались по саду, садились на снежной поляне перед домом и, глядя светящимися глазами на темные замерзшие окна, поднимали морды в ледяную темноту и сначала низко, будто ворча, потом все громче, забирая голодной глоткой все выше, начинали выть, не переводя духу, – выше, выше, пронзительнее…
От этих волчьих воплей Шарок и Каток зарывались мордой в солому, лежали без чувств под каретником. На людской плотник Пахом ворочался на печи под овчинным тулупом и бормотал спросонок:
– О господи, господи, грехи наши тяжкие.
В доме были будни. Вставали все очень рано, когда за синевато-черными окнами проступали и разливались пунцовые полосы утренней зари и пушистые стекла светлели понемногу, синели вверху.
В доме стучали печными дверцами. На кухне еще горела керосиновая жестяная лампа. Пахло самоваром и теплым хлебом. За утренним чаем не засиживались. Матушка очищала в столовой стол и ставила швейную машину. Приходила домашняя швея, выписанная из села Пестравки, – кривобокенькая, рябенькая Соня, с выщербленным от постоянного перегрызания нитки передним зубом, и шила вместе с матушкой тоже какие-то будничные вещи. Разговаривали за шитьем вполголоса, с треском рвали коленкор. Швея Софья была такая скучная девица, словно несколько лет валялась за шкафом, – ее нашли, почистили немного и посадили шить.
Аркадий Иванович за эти дни приналег на занятия и сделал, – как он любил выражаться, – скачок: начал проходить алгебру – предмет в высшей степени сухой.
Уча арифметику, по крайней мере можно было думать о разных бесполезных, но забавных вещах: о заржавленных, с дохлыми мышами бассейнах, в которые втекают три трубы, о каком-то, в клеенчатом сюртуке, с длинным носом, вечным «некто», смешавшем три сорта кофе или купившем столько-то золотников меди, или все о том же несчастном купце с двумя кусками сукна. Но в алгебре не за что было зацепиться, в ней ничего не было живого, только переплет ее пахнул столярным клеем, да, когда Аркадий Иванович объяснял ее правила, наклоняясь над стулом Никиты, в чернильнице отражалось его лицо, круглое, как кувшин.
Рассказывая по истории, Аркадий Иванович вставал спиною к печке. На белых изразцах его черный сюртук, рыжая бородка и золотые очки были чудо как хороши. Рассказывая, как Пипин Короткий в Суассоне разрубил кружку, Аркадий Иванович с размаху резал воздух ладонью.
– Ты должен себе усвоить, – говорил он Никите, – что такие люди, как Пипин Короткий, отличались непоколебимой волей и мужественным характером. Они не отлынивали, как некоторые, от работы, не таращили поминутно глаз на чернильницу, на которой ничего не написано, они даже не знали таких постыдных слов, как «я не могу» или «я устал». Они никогда не крутили себе на лбу вихра, вместо того чтобы усваивать алгебру. Поэтому вот, – он поднимал книгу с засунутым в середину ее пальцем, – до сих пор они служат нам примером…
После обеда обычно матушка говорила Аркадию Ивановичу:
– Если сегодня опять двадцать градусов – Никита гулять не пойдет.
Аркадий Иванович подходил к окну и дышал на стекло в том месте, где снаружи был привинчен градусник.
– Двадцать один с половиной, Александра Леонтьевна.
– Ну, вот, я так и знала, – говорила матушка, – поди, Никита, займись чем-нибудь.
Никита шел к отцу в кабинет, залезал на кожаный диван, поближе к печке, и раскрывал волшебную книгу Фенимора Купера.
В теплом кабинете было так тихо, что в ушах начинался едва слышный звон. Какие необыкновенные истории можно было выдумывать в одиночестве, на диване, под этот звон. Сквозь замерзшие стекла лился белый свет. Никита читал Купера; потом, насупившись, подолгу, без начала и конца, представлял себе зеленые, шумящие под ветром травяными волнами, широкие прерии; пегих мустангов, ржущих на всем скаку, обернув веселую морду; темные ущелья Кордильеров; седой водопад и над ним – предводителя гуронов – индейца, убранного перьями, с длинным ружьем, неподвижно стоящего на вершине скалы, похожей на сахарную голову. В лесной чащобе, в корнях гигантского дерева, на камне сидит он сам – Никита, подперев кулаком щеку. У ног дымится костер. В чащобе этой так тихо, что слышно, как позванивает в ушах. Никита здесь – в поисках Лили, похищенной коварно. Он совершил много подвигов, много раз увозил Лилю на бешеном мустанге, карабкался по ущельям, ловким выстрелом сбивал с сахарной головы предводителя гуронов, и тот каждый раз снова стоял на том же месте; Никита похищал и спасал и никак не мог окончить спасать и похищать Лилю.
Когда мороз и матушка позволяли высовывать нос из дома, Никита уходил бродить по двору один. Прежние игры с Мишкой Коряшонком надоели ему, да и Мишка теперь сидел больше на людской, играл в карты – в носы или в хлюст, когда проигравшего таскали за волосы.
Никита подходил к колодцу и вспоминал: вот отсюда он увидел в окне дома единственный на свете голубой бант. Окно сейчас пусто. А вот у каретника Шарок и Каток раскопали под снегом дохлую галку, – это была та самая галка: присев около нее, Лиля говорила: «Как мне жалко, Никита, посмотрите – мертвая птичка». Никита отнял галку у собак, отнес за погребицу и закопал в сугробе.
Проходя по плотине, Никита вспомнил, как он шел здесь ночью, после елки, под огромными, прозрачными в лунном свете ветлами, и сбоку скользила его тень. Почему тогда он так мало дорожил тем, что с ним случилось? Надо было бы тогда внимательно, закрыв глаза, почувствовать, – какое было счастье. А сейчас: колючий ветер шумит в мерзлых, черных ветлах, на пруду совсем замело ледяную горку, с нее он и Лиля скатились тогда на салазках, – Лиля молчала, зажмурилась, крепко вцепилась в бочки салазок. Все следы замело снегом.
Никита уходил по хорошо державшему насту за двор, туда, где с севера намело сугробы вровень с соломенными крышами. Отсюда было видно все ровное белое поле, – пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом. Тянуло, как дымком, поземкой. Отдувало полу бараньего полушубка. С гребня сугроба порошило снегом. Никита и сам не знал, почему хочется ему стоять и глядеть на эту пустыню.
Матушка стала замечать, что Никита ходит скучный, и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятия по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и «закатить ему», как очень неумно выразился Аркадий Иванович, – касторки.
Все эти меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича, Никита повеселел. Но настоящий целитель пришел через три недели: сильный сырой ветер, с с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей рваными облаками.