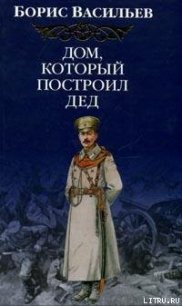И был вечер, и было утро - Васильев Борис Львович (книги бесплатно без txt) 📗
Навещать раненого было категорически запрещено, и Роза, не желая подвергать Оглоблина риску, ни разу более не беспокоила его. Она все время помнила об особом интересе бабки Палашки, а потому вообще избегала появляться возле больницы, довольствуясь слухами. А слухи были одни: плохо. Рана не затягивается, воспаление продолжается, и лихорадка не проходит; Роза принимала все за чистую монету и терзалась. И, истерзавшись, изыскала способ повидаться с Олей Олексиной.
— Хорошо, что нашли меня, мадемуазель Олексина, — сказал Оглоблин, когда Оля явилась к нему. — Ваш протеже здоровее нас с вами, и теперь задача, как его вытащить из больницы. И не просто вытащить, а чтоб исчез он, как дым, как утренний туман. Вы поняли меня, мадемуазель? Поломайте вашу головку, учитывая, что через три дня я буду вынужден выписать молодого человека прямехонько в жандармские объятия.
— Он совершенно здоров, и Никита Антонович через три дня выпишет его, — скорее испуганно, чем радостно, рассказывала Оля, зайдя в успенскую лавочку за тесьмой. — Необходимо устроить побег, но не это самое сложное. Главное, он должен исчезнуть из города, но как и куда исчезнуть? Дороги перекрыты, поезда досматриваются, а Коля такой заметный.
— Цыгане! — выпалила Роза. — Цыганский табор стоит в Чертовой Пустоши, и своему они не откажут. Я берусь с ними условиться, а ты, сестричка, организуешь побег.
— Я? — растерялась Оля, куда более привыкшая говорить, нежели действовать.
— Ты! — Голос Розы звучал жестко, а глаза налились малахитом. — Через студентов, либералов, Петра Петровича, литературный салон, черта с дьяволом — через кого хочешь. Сутки на размышление, сутки на подготовку, и мы вытащим Колю из петли. Зря, что ли, моя малпочка бросилась с моста?
Расставшись с озадаченной Олей, Роза тут же отправилась в табор. Однако повидать вожака оказалось совсем не просто: цыганки в широченных цветастых юбках не желали ни о чем слушать, предлагая погадать, купить сережки, полечиться от сглазу, приобрести приворотное зелье и опять — погадать. И так продолжалось до той поры, пока Роза не заорала, перекрывая женский галдеж. Тогда цыганки вдруг разом умолкли, а из драного шатра вылез молодой цыган в красной косоворотке и шевровых щегольских сапожках.
— Зачем кричишь, женщина?
— Мне надо видеть старшего.
— Зачем тебе Ром-баро?
— У меня к нему серьезное дело.
— Женские дела решают женщины.
Он собирался снова нырнуть в шатер, и Роза вынуждена была рискнуть. Сказала, понизив голос:
— Речь идет о жизни человека.
— Цыганам нет дела до людей.
— Но он цыган! — крикнула Роза. — Самый настоящий, из табора.
Молодой в косоворотке долго испытующе смотрел на нее. Потом сказал:
— Подожди здесь, женщина.
Ушел. Цыганки больше не интересовались ею: теперь мужчины отвечали за все дальнейшее. Но ждать пришлось недолго: молодой цыган откинул полог и жестом пригласил ее в шатер.
Ром-баро был сед, коренаст и медлителен. Молча пригласил Розу сесть напротив, долго разглядывал ее.
— Чья ты, красавица?
— В городе меня зовут Розой Треф. Я… Я танцую и тем зарабатываю себе на хлеб.
— У тебя есть возлюбленный?
— Да.
Цыгане были очень недоверчивы, и Роза старалась отвечать как можно проще и короче, чтобы пробиться сквозь это недоверие.
— Он кого-нибудь убил?
— Он защищал мою честь, и его ранили жандармы.
— С властями надо жить в мире.
— Но он цыган! — уже с отчаянием воскликнула Роза. — Если вы не укроете его, они повесят…
— Откуда цыган в городе? Ты что-то путаешь, красавица.
Роза, уже злясь и не скрывая этой злости, рассказала, как когда-то табор оставил на паперти Варваринской церкви умирающего мальчонку, как Монеиха выходила его, как он стал кузнецом…
— Его зовут Колей? — неожиданно спросил женский голос. Роза живо обернулась: в глубине шатра сидела старая цыганка, посасывая давно погасшую трубку.
— Да. Коля Третьяк: он сам назвал себя.
Ром-баро и старуха заговорили по-цыгански, а Роза уже несмело улыбалась, расценив вопрос как воспоминание: она была уверена, что именно этот табор и оставил когда-то маленького Колю. «Может, он внук этой старухи?» — подумала она.
— Твои зеленые глаза сказали больше, чем твой язык, красавица, — усмехнулся вожак. — Мы знаем об этом случае, потому что знаем табор Третьяка, где с детьми приключилась хворь. Мы поверим тебе, но, если твой возлюбленный не заговорит на нашем языке, я сам отведу его в участок.
— Заговорит, — улыбнулась Роза, и слезы вдруг сами собой хлынули из глаз. Она не любила плакать и никогда на людях не плакала, но, видно, стали сдавать даже ее нервы. — И заговорит, и споет, и спляшет, только ради бога увезите его подальше!
Как ни сложно было Розе пробиться сквозь цыганскую многовековую недоверчивость, Оле было и сложнее, и труднее. И потому, что, по сути, она оставалась чужой в городе, и потому, что была куда наивнее и неопытнее, и потому, что ей надлежало организовать сам побег. Причем организовать так, чтобы разобиженная охранка не стала бы никого хватать в больнице. И единственным человеком, кому она могла довериться, оказался доктор Оглоблин.
— Цыгане, — это весьма остроумный ход, — одобрил он, когда Оля откровенно рассказала как о том, что уже придумано, так и о том, чего никак не могла придумать. — А вашу задачу разделим пополам. Итак, вас страшит физическое исполнение и моральная ответственность за возможные последствия. Теперь считайте, что одной половины нет: моральную сторону я беру на себя.
— А циркуляр? А ваша расписка за Колю? И потом, кто-то ведь будет дежурить ночью? И их обвинят как сообщников.
— И прекрасно сделают! — улыбнулся Оглоблин. — В каждом учреждении непременно имеются господа, от которых следует, избавляться, как от дурной болезни. Есть они и в Градской больнице, но случится так, что как раз они-то и будут дежурить в указанную вами ночь.
— Ура, Никита Антонович!
— Погодите радоваться, сначала попытаемся решить вторую половину. Наш бунтарь лежит в отдельной палате с зарешеченным окном. Под этим окном снаружи установлен круглосуточный жандармский пост. На ночь палату лично запирает переодетый охранник, который коротает время за столиком ночной сестры милосердия. Страдает изжогой и… И допустим, что в назначенный час он уснет, а сестру позовут к больному в дальнюю палату. Остается в эти десять — пятнадцать минут проникнуть в мужской корпус, выкрасть ключ, открыть дверь палаты, выпустить цыгана, вновь запереть палату, положить ключ на место и удрать, как Гаврош… Гаврош, я сказал? Гаврош!.. — Знаменитый хирург вскочил с легкостью корнета. — Едем, мадемуазель Олексина!
Через полчаса удивленная мадемуазель Олексина была представлена капитану Куропасову Ивану Андреевичу, находящемуся в долгосрочном отпуску по болезни, его супруге Вере Дмитриевне, а также детям Ане и Андрею. Встретили Олю, как свою, поскольку влюбленная в ее пламенные филиппики Аня много и восторженно рассказывала о ней. Синеглазую крамольницу повели в гостиную, а доктор уединился с капитаном в тесном кабинетике.
— Как сын? — спросил Оглоблин. — Не разлюбил еще фокусы?
— Какое там! — вздохнул капитан. — С картами орудует, шельмец, почище столичного шулера. А уж в пальцах ловкость такую развил, что хоть в цирке его показывай. Поверите ли — за обедом на глазах у всего семейства часы у меня вынул!
— Замечательно! — сказал хирург. — Очень талантливый мальчуган. Очень!
Ну вот, скажете, не удержался: приключения начались, «Пещера Лейхтвейса», а ведь все, поди, выглядело совсем не так. Все наверняка было очень просто, но, когда дело касается собственных дедов, мы почему-то теряем чувство меры и начинаются такие залихватские перестрелки, побеги, драки да погони, что диву даешься, когда же деды успевали ухаживать за нашими бабушками, справлять свадьбы да еще и детей заводить? Все это верно, когда речь идет о кино или беллетристике, и неверно, когда касается действительности, по той простой причине, что нет, не было и не может быть лучшего романиста, чем сама Жизнь. Я, к сожалению, не застал в живых деда, но бабушка, отец и даже какой-то древний его приятель много раз рассказывали мне об одной темной ночке…