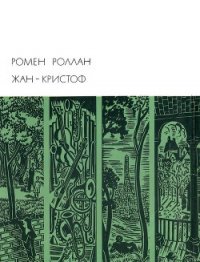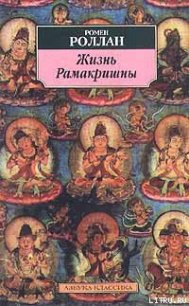Жан-Кристоф. Том II - Роллан Ромен (читать книги txt) 📗
— Так это он и есть?
Но за обедом Кристоф заслужил ее расположение. Никто еще так рьяно не отдавал должное ее талантам. И она не ушла в кухню, а осталась стоять в дверях столовой, глядя на Кристофа, который весело шутил и в то же время неутомимо работал челюстями; подбоченившись, она смеялась до упаду. Все веселились от души. Одно лишь темное облачко омрачало их радость: Поттпетшмидт не приехал. Они то и дело вспоминали его:
— Ах! Если бы он был здесь! Вот кто умеет поесть! И выпить! И спеть!
Приятели не скупились на похвалы.
— Если бы Кристоф мог послушать его!.. Но еще не все потеряно. Мы ждем Поттпетшмидта вечером, в крайнем случае — ночью…
— О! Ночью я буду далеко, — сказал Кристоф.
Светившееся радостью лицо Шульца омрачилось.
— Как это далеко? — сказал он дрожащим голосом. — Ведь вы же не уезжаете?
— Вот именно — уезжаю! — весело отозвался Кристоф. — Вечерним поездом.
Шульц пришел в отчаяние. Он рассчитывал, что Кристоф заночует у него и пробудет не один день. Он бормотал:
— Нет, нет, не может быть!..
Кунц повторял:
— А Поттпетшмидт?..
Кристоф смотрел на обоих: разочарование, которое явно читалось на их открытых, дружеских лицах, тронуло его. Он сказал:
— Какие вы оба милые!.. Я уеду завтра. Идет?
Шульц схватил его руку.
— Ах! — сказал он. — Какое счастье! Спасибо! Спасибо!
Старик радовался, как ребенок, для которого завтра — это так далеко, так далеко, что нет смысла и думать о нем. Сегодня Кристоф не уезжает, в их распоряжении целый день, они пробудут весь вечер вместе, юноша переночует под его кровом, — вот все, что видел Шульц; а видеть дальше он не желал.
И веселье продолжалось. Вдруг Шульц торжественно встал и провозгласил взволнованный и высокопарный тост за дорогого гостя, который оказал им высокую честь — осчастливил своим посещением их маленький городок и его, Шульца, скромный дом; он пил за благополучное возвращение Кристофа, за его успехи, за его славу, за все радости мира сего, которых он от чистого сердца желал юноше. Второй бокал был поднят за «благородное искусство — музыку», и еще один за старого друга Кунца, и еще один за весну; не забыт был и Поттпетшмидт. Кунц выпил за Шульца и еще за каких-то лиц, а Кристоф, чтобы покончить с тостами, выпил за «почтенную Саломею», которая так и зарделась. И тут же, не оставляя ораторам времени для ответа, запел известную немецкую песенку; старики подтянули. За ней последовала вторая, а там и третья, на три голоса — о дружбе, музыке и вине. В качестве аккомпанемента звучали взрывы хохота, звенели рюмки: друзья то и дело чокались.
Поднялись из-за стола в половине четвертого, уже несколько осоловевшие. Кунц повалился в кресло — он был не прочь соснуть. У Шульца от утренних похождений и многочисленных тостов подкашивались ноги. Оба они мечтали, чтобы Кристоф снова сел за рояль и играл им еще и еще. Но Кристоф, этот необыкновенный Кристоф, в котором силы так и кипели, взяв три-четыре аккорда, вдруг захлопнул крышку рояля, выглянул в окно и спросил, не пройтись ли до ужина. Его тянуло за город. Кунц не выказал большого восторга, но Шульц поддержал эту превосходную мысль и заявил, что гостю необходимо показать аллею Шенбухвельдер. Кунц слегка поморщился, однако безропотно поднялся вместе со всеми: ему не меньше, чем Шульцу, хотелось хвастнуть перед гостем красотами их края.
Вышли. Кристоф взял Шульца под руку, и старику волей-неволей пришлось прибавить шагу. Кунц шел следом, отирая пот с лица. Они весело болтали. Жители города, стоя у дверей домов, провожали их взглядом и находили, что Herr Professor Шульц выглядит совсем молодым человеком. Выйдя за город, они пошли лугом. Кунц сетовал на жару. Но безжалостный Кристоф восторгался упоительным воздухом. К счастью для стариков, они поминутно останавливались в пылу спора, и за оживленной беседой забывался трудный путь. Вступили под сень леса. Шульц декламировал стихи Гете и Мерике. Кристоф очень любил стихи, но плохо запоминал. Слушая их, он обычно погружался в смутные мечты, музыка вытесняла слова, и они забывались. Память Шульца его поражала. А какая живость ума! Как непохож этот немощный, слабый старик, проводивший долгие месяцы в четырех стенах, всю жизнь почти ничего не видевший, кроме своего захолустья, на Гаслера, еще молодого, прославленного, стоящего в самом центре художественной жизни, исколесившего всю Европу во время своих гастролей и ко всему равнодушного, ничего не желающего знать! Шульц не только свободно разбирался в новинках современного искусства, известных Кристофу, — он хорошо знал музыкантов прошлого и иностранных композиторов, о которых Кристоф даже и не слыхал. Память Шульца походила на глубокий бассейн, куда стеклись самые чистые потоки, пролившиеся на землю с небес. Кристоф мог бы век черпать из этого источника; и Шульц был наверху блаженства, видя, как воодушевился Кристоф. Ему и прежде доводилось встречать снисходительных слушателей или ревностных учеников. Но старику всегда не хватало молодого горячего сердца, с которым он мог бы поделиться своими восторгами, а ведь он задыхался от их избытка.
Все трое уже стали наилучшими друзьями, как вдруг Шульц допустил невольный промах: он стал восхищаться Брамсом. Это вызвало у Кристофа приступ холодного гнева: он выпустил руку Шульца и резко сказал, что тот, кто любит Брамса, ему не друг. Старики съежились, как от холодного душа. Шульц, слишком застенчивый, чтобы спорить, слишком правдивый, чтобы лгать, хотел объясниться и невнятно забормотал что-то. Но Кристоф прервал его решительным возгласом:
— Довольно!
Наступило гробовое молчание. Прогулка продолжалась. Старики не смели взглянуть друг на друга. Кунц, кашлянув, попытался возобновить беседу, — он заговорил о красоте леса, о хорошей погоде, но ему не удавалось втянуть в разговор Кристофа, а тот все еще дулся и отвечал односложно. Кунц, не встретив отклика с этой стороны, попытался — лишь бы только нарушить молчание — заговорить с Шульцем; но у Шульца перехватило дыхание, и он не в состоянии был вымолвить ни слова. Кристоф, искоса поглядывавший на него, чуть не расхохотался, — он уже отошел. Да он и не сердился всерьез — даже упрекал себя за то, что по-свински огорчил бедного Шульца, но, чувствуя свою власть, не пожелал отступиться от высказанного мнения. Так они и шли молча до опушки леса, — в тишине раздавались лишь шаркающие шаги двух смущенных стариков; Кристоф что-то насвистывал и, казалось, забыл о них. Но выдержки его хватило ненадолго. Рассмеявшись, он обернулся к Шульцу и схватил его за плечи своими сильными руками.
— Милый мой, дорогой Шульц! — воскликнул он, нежно глядя на него. — Как это прекрасно! Как это прекрасно!..
Он подразумевал красоту этих мест, счастливо проведенный день, но его смеющиеся глаза говорили: «Ты — хороший. А я — скотина. Прости меня! Я очень тебя люблю».
Старик Шульц растаял от блаженства, как будто из-за туч вновь выглянуло солнце. Прошло несколько минут, пока он обрел дар речи. Кристоф снова взял его под руку и стал разговаривать с ним как можно ласковее, — в порыве увлечения он еще прибавил шагу, не замечая, что спутник его еле дышит. Шульц не жаловался: от радости он не замечал утомления. Он знал, что за все безумства этого дня придется расплачиваться. Но он думал:
«Ну и пусть! Это будет завтра. Он уедет, и я отдохну».
А Кунц, натура менее восторженная, отстал от них, и вид у него был довольно жалкий. Кристоф наконец заметил это. Он сконфузился, стал извиняться и предложил полежать на лужайке, под тополями. Конечно, Шульц сейчас же согласился, махнув рукой на бронхит. К счастью, Кунц был не так забывчив, а, может быть, тревога за Шульца была для него только предлогом, чтобы позаботиться о себе; он был весь мокрый после прогулки и боялся лежать на росистой траве. Он предложил сесть на ближайшей станции в поезд и вернуться в город. Так и сделали. Как ни устали старики, пришлось поторапливаться, чтобы поспеть вовремя; они явились на вокзал как раз к приходу поезда.