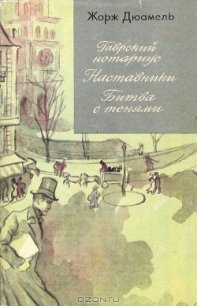Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье - Дюамель Жорж (читать книги полностью .txt) 📗
У г-на Шальгрена довольно длинные волосы, вьющиеся, шелковистые, почти совсем седые. Они касаются ворота его рабочей блузы и, можешь быть уверен, не оставляют там ни малейших следов перхоти: все на нем чисто, опрятно, без ненужного фатовства. Хочется также рассказать тебе о его руках, которые, по-моему, очень красивы. Правда, кожа на них суховата, особенно возле суставов, так как, если верить энциклопедии, патрону лет пятьдесят шесть — пятьдесят семь, но подвижность этих рук, их изящество приводят меня в восторг. Никогда ни одного лишнего или несоразмерного жеста: в каждом движении та полная гармония, которой, по всей вероятности, объясняется власть чародеев и гипнотизеров.
Если бы патрон случайно прочел это письмо, оно вряд ли бы ему понравилось. Он создал себе очень ясное, очень трезвое представление о том, что я назвал выше его обликом; но он не любуется им, не проявляет к нему ни малейшего снисхождения. «Надо хорошенько себя узнать, чтобы лучше о себе позабыть», — замечает он иногда.
Все его работы говорят о редкой последовательности, и, однако, он человек рассеянный. Или, лучше сказать,
он разрешает себе отвлекаться, охотно поддается своей рассеянности. Стоит ему о чем-нибудь заговорить, и он поминутно уходит в сторону от основной темы, открывает новые пути, боковые тропы. Он умолкает, возвращается обратно, забегает вперед, устремляется ввысь, опять умолкает, внутренне становится на колени, если можно так выразиться, рассматривает скрытый от наших глаз предмет, и рассматривает так долго, что кажется, будто он успел задремать, только взгляд бодрствует, бархатистый взгляд серо-карих глаз, то устремленный в одну точку, то подвижный, взгляд удивительно мягкий, и, однако, выдержать его трудно, когда он бывает пристальным, сосредоточенным.
Вчера утром он зашел ко мне. Я как раз рассматривал под микроскопом срезы печени и клетки Купфера, которые мне удалось поместить в самом фокусе. Патрон наблюдал несколько минут за моей работой и неожиданно попросил:
— Пожалуйста, Паскье, покажите мне ваши препараты!
Он сел вместо меня на высокий табурет в ярком свете, падавшем из окна. Право, бледность у него почти неестественная, что очень меня беспокоит; конечно, это не желтизна слоновой кости, характерная для рака, а скорее пергаментная бледность некоторых сердечных больных. И порой его белое лицо становится еще белее, словно оно может бледнеть до бесконечности.
Он незаметно переставил пластинку микроскопа, чтобы обежать взглядом весь препарат. «Поразительно, поразительно!» — приговаривал он. Затем с улыбкой взглянул на меня: «Я не принадлежу к числу тех, кто находит, что все логично, все естественно, все объяснимо. Нет, конечно же, нет!»
Он повернулся ко мне на табурете и продолжал, по-прежнему улыбаясь, словно имелась явная связь между тем, что он сказал, и тем, что собирался сказать:
— Знаете, мой друг, меня только что избрали председателем Общества по рационалистическим изысканиям. Я уже давно принадлежу к этому старому обществу. Можно ли не быть рационалистом, Паскье? Люди моего возраста были вскормлены этим горьким, но питательным молоком. Да и как не быть рационалистом, дорогой друг? Если мы освободились наконец от жалких суеверий, от всех разновидностей мерзкого фанатизма, то мы обязаны этим прежде всего твердому и мудрому рационализму. Я гораздо старше вас, Паскье. Я сам был свидетелем последних конвульсий былых химер. Я сказал «последних». Но они еще возродятся, они возрождаются каждый день. Возрождаются даже у людей со светлой головой. Возьмите хотя бы Клода Бернара, который всю жизнь победоносно сражался с витализмом, с анимизмом и прочими ошибочными доктринами. Так вот, под конец жизни этот самый Клод Бернар принялся фантазировать, и фантазировать наугад. Он втайне подготовил работу против идей Пастера, работу незаконченную, которая не увидела света до его смерти, но Бертело разыскал ее не то сам, не то через третьих лиц в ночном столике покойного и хладнокровно опубликовал. Это произошло в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году, в разгар лета, мне было тогда двадцать семь лет. Трудно себе представить гнев Пастера, ведь за двенадцать лет до этого он написал о Бернаре очерк, полный блистательных похвал. Пастер, по своему обыкновению, разрешил спор. И не только разрешил, но и все поставил на место. Мы следили, затаив дыхание, за всеми перипетиями этой драмы, так как для нас это была драма...
...Обратите внимание, Паскье, вы колете своих кроликов в боковую вену и правильно делаете; но вон у того кролика уши совсем прозрачные: у него гематома, которая грозит общим заражением... Как всегда, Пастер одержал победу, и фантазеры отказались на время от своих фантазий. Задумывались ли вы когда-нибудь, мой друг, о том, что Пастер, человек верующий, возвышенная душа, был одним из величайших проповедников рационализма. Во всех своих даже наименее важных работах он — воплощение рационалистической логики. И находятся люди, думающие, будто мир, в сущности, несложен... Я уже сказал вам, что меня назначили председателем Общества по рационалистическим изысканиям. Я долго колебался, мой друг, прежде чем принять эту довольно обременительную честь, и если я в конце концов согласился, то не без тайного умысла.
Патрон сделал характерное движение губами, словно он что-то пережевывал. Обычно это служит у него признаком волнения. Затем негромко просвистел несколько тактов из Персифаля на мотив «Тайной вечери». Почему? Да, почему? Не знаю. Наконец, понизив голос, продолжал свой монолог:
— Замечали ли вы, мой друг, что ваши зверьки чувствуют музыку? Все животные чувствуют музыку, даже рыбы, и это поразительно. Сом, например, прекрасно слышит звонок. Я уже не говорю о змеях, которые раскачиваются под звуки музыки. Но человек, Паскье, человек! Попробуйте взглянуть на вещи объективно: звук есть вибрация, и вибрация довольно примитивная. Допускаю, что восприятие звуковых волн может оказывать более или менее благоприятное влияние на живую клетку, эту поразительную субстанцию, о которой мы почти ничего не знаем; но разве мы все сказали, говоря о приятном или неприятном впечатлении? Разве такие слова хоть сколько-нибудь соответствуют бесконечному миру радостей и мук, которые пробуждаются в нас только потому, что наша барабанная перепонка вибрирует под влиянием звуковых волн? И пусть мне не говорят об ассоциации идей и воспоминаний — это не разрешает проблемы. Вы воспроизводите при помощи трубочки или струны четыре-пять последовательных звуков, и я впадаю то в экстаз, то в мрачное отчаяние. Как вам известно, люди, подобные Вакслеру, упорно сводят все это к вопросам биологической химии, к уравнениям, к кривым. Это же ребячество!
Снова пауза. Патрон тихо качал головой, а я ждал, предоставляя ему бродить ощупью в этих богатых мыслями дебрях. Он опять заговорил:
— Я человек девятнадцатого века, а девятнадцатый век останется в истории веком торжествующего рационализма. Меня радует это. Но люди не бывают благоразумны в своем торжестве, и даже разум, восторжествовав, проявил недостаточно сдержанности и такта. Впрочем, это естественно после стольких веков угнетения и варварской тирании! После всех этих тюрем и костров. Можно покарать Исидора или Состема, но не Галилея: перед Галилеем преклоняются, его учение продолжают. В конце концов рационализм взял верх. К сожалению, опьянев от успеха, иные трезвые умы решили, что разум может и должен все объяснить. Вот видите, дорогой друг, какое щекотливое создалось положение. Допустить в принципе, что разум не в состоянии всего объяснить, значит заранее сложить оружие, отступить перед химерой, понимаю. Но утверждать, будто разум может все объяснить, значит насаждать от избытка самомнения новое заблужденье, новую разновидность невежества и варварства. Паскье, я говорю так, словно я один, так, как мне случается говорить, когда я бываю один.
По всей вероятности, я улыбнулся, потому что лицо патрона осветилось ласковой улыбкой.
— Вы, Паскье, человек двадцатого века. Я не говорю, что рационализм не узнает новых боев и даже новых потрясений. Всегда приходится начинать сызнова — окончательной победы не существует. Полагаю, однако, что человечество перенесет на другую почву свою потребность в конфликтах, в столкновениях, в борьбе. В самом деле, социальные разногласия с каждым днем обостряются. Они не замедлят принять характер прежних религиозных войн. Рационализм стоит на достаточно прочных позициях, чтобы оказаться не скажу терпимым, но попросту мудрым. Рационалистическое миропонимание может признать без стыда, что оно не единственно возможное, что существуют другие пути, быть может, опасные, но которые все же ведут куда-то. Рационализм достаточно силен сегодня, чтобы пойти на мировую. Понимаете? Я надеюсь, если уж все говорить до конца, что рационализм перестанет смотреть на себя как на естественного противника интуитивного или религиозного познания и даже познания мистического или поэтического. Это может стать великой задачей двадцатого века. Задачей людей вашего возраста. Я лишь возвещаю ее. И чтобы сделать это с наибольшим авторитетом, я согласился стать во главе нашего старого Общества, где имеется много людей, впрочем, весьма достойных, которые по-своему исповедуют рационалистический катехизис и, сами того не подозревая, бывают столь же непреклонны и слепы, как их враги, и даже фанатичны на свой манер.