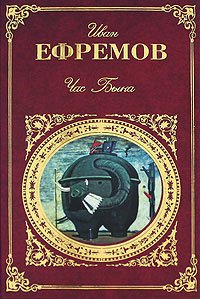Воздушные змеи - Ромен Гари (онлайн книга без TXT) 📗
— Кого он обвиняет, der Kerl? [35]
— Это название песни, очень популярной в начале века, — сказал дядя. — Жена уходит с любовником, и муж обвиняет её в неверности.
— Он не похож на певца.
— Однако у него был очень хороший голос.
Комиссар полиции в Клери сам дружески предостерёг Амбруаза Флери, не без улыбки, так как мысль о том, что этот мягкий пацифист замешан в каких-то подрывных действиях, казалась ему смешной.
— Мой добрый Амбруаз, они, наверно, воображают, что вы вот-вот запустите в небо Лотарингский крест!
— Знаете, не для меня эти дела, — сказал дядя.
— Конечно.
Но на мечтателей смотрели косо: мечта и бунт всегда тесно связаны. За нами следили, и некоторое время мы не могли использовать наш склад оружия. Он находился под навозной ямой и уборной, которую мы несколько месяцев избегали чистить.
И всё же именно в это крайне опасное время дядя пошёл на безумный поступок. В конце июля 1942-го до Клери докатилась весть о массовой облаве в Вель д'Ив [36]. В тот вечер мы сидели в «Прелестном уголке» — один из уютных вечеров за бутылкой старого вина, которые хозяин часто проводил со своим другом Амбруазом Флери. Иногда Дюпра — у него было бойкое перо — читал нам одну из своих поэм, написанную александрийским стихом. Но в тот вечер он был в особенно мрачном настроении.
— Слышал новость, Амбруаз? Про облаву в Вель д'Ив?
— Про какую облаву?
— Они собрали всех евреев и вывезли в Германию.
Дядя молчал. Рядом не было воздушного змея, за которого в этот момент он мог бы уцепиться. Дюпра стукнул кулаком по столу.
— И детей тоже, — пробурчал он. — Они и детей выдали. Больше их не увидишь в живых.
Амбруаз Флери держал в руке стакан вина. Единственный раз в жизни я видел, что его рука дрожит.
— Ну вот. Я тебе вот что скажу, Амбруаз. Это тяжёлый удар для «Прелестного уголка». Ты скажешь, что тут общего, но общее всё. Всё. Дьявол. Для такого человека, как я, который ложится костьми, чтобы сохранить определённое понятие о Франции, невозможно принять подобную вещь. Ты понимаешь? Дети, которых посылают на смерть. Знаешь, что я сделаю? Я закрою ресторан на неделю в знак протеста. Конечно, потом я его открою, потому что для фашистов приятнее всего было бы, чтобы я закрылся навсегда. Они давно хотят меня уничтожить. Всё, чего они хотят, — это чтобы Франция отказалась от себя самой. Но я закроюсь на неделю, это решено. Существует несовместимость между «Прелестным уголком» и тем, что детей выдают бошам.
Никто ещё не слышал, чтобы Дюпра произносил слово «боши».
Дядя поставил стакан и встал. Его лицо посерело; казалось, на нём вдвое больше морщин. Мы ехали под ночным небом на своих скрипучих велосипедах. Луна ярко светила. Когда мы подъехали к дому, он оставил меня, не говоря ни слова, и закрылся в мастерской. Я не мог заснуть. Я вдруг понял, как сильно прикрываются немцами и даже фашистами для оправдания собственных деяний. Мне давно уже приходила мысль, от которой трудно было избавиться, и, может быть, я так и не избавился от неё. Фашисты — человеческие существа. Именно их бесчеловечность присуща человечеству.
В четыре часа утра я уехал из Ла-Мотт: я должен был поехать в Роне встретиться с Субабером, чтобы наметить с ним на карте новые посадочные площадки. Надо было также предупредить товарищей, чтобы какое-то время не появлялись в Ла-Мотт. Выходя из дому, я увидел, что в мастерской ещё горит свет. Я подумал не без раздражения: надо быть по-настоящему упрямым французом, чтобы мастерить воздушных змеев в такое время. Лучшими друзьями воздушных змеев всегда были дети. Мне казалось, что если Амбруаз Флери собирается в такой час запустить в небо своего «Монтеня» или «Паскаля», то небо выплюнет его ему в лицо.
Я вернулся домой через день, в одиннадцать утра. Последние километры я шёл пешком, толкая перед собой велосипед. Я уже латал каждую шину раз десять, и приходилось их беречь. Я дошёл до места под названием «Узкий проезд», где сейчас стоит стела в память шестнадцатилетнего Жана Виго, которого полицейские захватили после высадки с оружием в руках и расстреляли на месте. Я остановился, чтобы закурить, но сигарета выпала у меня изо рта.
В небе над Ла-Мотт парило семь воздушных змеев. Семь жёлтых воздушных змеев. Семь воздушных змеев в форме еврейских звёзд.
Я бросил велосипед и побежал. На лугу перед фермой стояли мой дядя Амбруаз и несколько детей, подняв глаза к небу, где трепетало семь звёзд позора. Сжав челюсти, нахмурив брови, с жёстким лицом, обрамлённым стриженными ёжиком седыми волосами и усами, старик походил на фигуру, какие раньше вырезали на носу корабля. У детей, пяти мальчиков и одной девочки, я их всех знал: Фурнье, Бланы и Босси — были серьёзные лица.
Я прошептал:
— Они сейчас явятся…
Но раньше пришли другие. О, их было немного: семья Кайе, семья Монье и отец Симон, который первый снял шапку.
Вечером дядю забрали и две недели продержали в тюрьме. Вытащил его оттуда Марселен Дюпра. Известно, что все Флери не в себе, объяснил он им. Наследственное безумие. Это то, что раньше называли «французской болезнью», это идёт из глубины веков. Не надо их принимать всерьёз, иначе рискуешь сделать серьёзную ошибку. Дюпра пустил в ход все свои связи, а они у него были, от Отто Абеца до Фернана де Бринона. На следующий день после ареста перед домом остановился «ситроен» Грюбера и ещё грузовик солдат. Они выбросили всех воздушных змеев на луг и подожгли. Грюбер, заложив руки за спину, смотрел, как пылает то, что так любовно создавали руки старого француза.
Ла-Мотт обыскали как никогда прежде. Грюбер опознал врага. Он сам взялся за дело и всюду совал свой нос, как будто речь шла о чём-то вещественном, материальном, что можно уничтожить.
В воскресенье дядю выпустили, и Марселен Дюпра привёз его в Ла-Мотт. Его первыми словами при виде пустой мастерской, откуда улетучились, превратившись в дым, все змеи, были:
— Надо браться за работу.
Первый собранный им воздушный змей изображал посёлок в горах, окружённый картой Франции, позволявшей понять, где это. Посёлок назывался Шамбон-сюр-Линьон, он находился в Севеннах. Дядя не объяснил мне, почему выбрал именно этот посёлок. Он ограничился тем, что сказал:
— Шамбон. Запомни это название.
Я ничего не понимал. Почему он интересуется этим посёлком, где никогда его ноги не было, и почему запускает воздушного змея «Шамбон-сюр-Линьон», следя за ним глазами с такой гордостью? Он сказал мне только одно:
— Я о нём слышал в тюрьме.
Моё удивление росло. Через несколько недель, восстановив некоторые из своих творений «исторической» серии, дядя объявил мне, что уезжает.
— Куда вы хотите ехать?
— В Шамбон. Как я тебе говорил, это в Севеннах.
— Господи Боже, что это за история? Почему в Шамбон? Почему в Севенны?
Он улыбнулся. Теперь лицо его было покрыто сеткой морщин, густой, как его усы.
— Потому что там я им нужен. Вечером, доев суп, он обнял меня:
— Я еду рано утром. Продолжай действовать, Людо.
— Будьте спокойны.
— Она вернётся. Придётся многое ей простить. Не знаю, говорил он о Лиле или о Франции.
Когда я проснулся, его у неё не было. На столе мастерской он оставил записку: «Продолжай».
Он увёз свой ящик с инструментами.
Только за несколько месяцев до высадки союзников я получил ответ на вопрос, который не переставал себе задавать: почему Шамбон? Почему Амбруаз Флери уехал от нас со своими инструментами туда, в этот посёлок в Севеннах?
Шамбон-сюр-Линьон был тот посёлок, где жители во главе с пастором Андре Трокме и его женой Магдой спасли от высылки несколько сотен еврейских детей. Четыре года вся жизнь Шамбона была посвящена этой задаче. Так напишу же я ещё раз слова, символизирующие верность идеалам: «Шамбон-сюр-Линьон и его жители», и если сейчас об этом забыли, пусть знают, что мы, Флери, всегда славились своей памятью и что я часто повторяю все имена жителей Шамбона, не забыв ни одного, ибо говорят, что сердце нуждается в упражнениях.
35
Этот парень (нем.).
36
Зимний велодром в Париже.