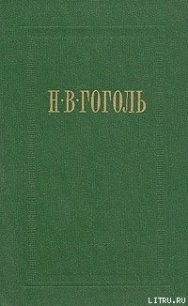Вечера на хуторе близ Диканьки. Изд. 1941 г. Илл. - Гоголь Николай Васильевич (читаем книги онлайн .txt) 📗
Как только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в конце которой один добродетельный книгопродавец, по своей редкой доброте и бескорыстию, поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон.
Между тем в голове тетушки созрел совершенно новый замысл, о котором узнаете в следующей главе.
Заколдованное место
Ей-богу, уже надоело рассказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: рассказывай, да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однакож не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!.. Вот изволите видеть. Нас всех у отца было четверо. Я тогда был еще дурень. Всего мне было лет одиннадцать; так нет же, не одиннадцать: я помню, как теперь, когда раз побежал было я на четвереньках и стал лаять по-собачьи, батько закричал на меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь, как молодой лошак!» Дед был еще тогда жив и на ноги, — пусть ему легко икнется на том свете, — довольно крепок. Бывало, вздумает… Да что ж эдак рассказывать? Один выгребает из печки целый час уголь для своей трубки, другой зачем-то побежал за комору. Что, в самом деле!.. Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать, так слушать! Батько еще в начале весны повез в Крым на продажу табак. Не помню только, два или три воза снарядил он. Табак был тогда в цене. С собою взял он трехгодового брата приучать заранее чумаковать. Нас осталось: дед, мать, я, да брат, да еще брат. Дед засеял баштан на самой дороге и перешел жить в курень; взял и нас с собою гонять воробьев и сорок с баштану. Нам это было, нельзя сказать, чтобы худо. Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цыбули, гороху, что в животе, ей-богу, как будто петухи кричат. Ну, оно притом же и прибыльно. Проезжие толкутся по дороге, всякому захочется полакомиться арбузом или дынею. Да из окрестных хуторов, бывало, нанесут на обмен кур, яиц, индеек. Житье было хорошее. Но деду более всего любо было то, что чумаков каждый день возов пятьдесят проедет. Народ, знаете, бывалый: пойдет рассказывать — только уши развешивай! А деду это все равно, что голодному галушки. Иной раз, бывало, случится встреча с старыми знакомыми (деда всякий уже знал), можете посудить сами, что бывает, когда соберется старье. Тара, тара, тогда-то да тогда-то, такое-то да такое-то было… Ну, и разольются! вспомянут бог знает когдашнее. Раз — ну, вот, право, как будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться; дед ходил по баштану и снимал с кавунов листья, которыми поприкрывал их днем, чтоб не попеклись на солнце. «Смотри, Остап!» говорю я брату: «вон чумаки едут!» — «Где чумаки?» сказал дед, положивши значок на большой дыне, чтобы на случай не съели хлопцы. По дороге тянулось, точно, возов шесть. Впереди шел чумак с сивыми усами. Не дошедши шагов, как бы вам сказать, на десять, он остановился. «Здорово, Максим! Вот привел бог где увидеться!»
Дед прищурил глаза: «А! здорово, здорово! откуда бог несет? И Болячка здесь? здорово, здорово, брат! Что за дьявол! да тут все: и Крутотрыщенко! и Печерыця! и Ковелёк! и Стецько! Здорово! А, га, га, го, го!..» и пошли целоваться! Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге, а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? за россказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полудника стал дед потчевать гостей дынями. Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали не мало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол, хоть сейчас, готовы сесть); обчистивши хорошенько, проткнул каждый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот. «Что ж вы, хлопцы», сказал дед, «рты свои разинули? танцуйте, собачьи дети! Где, Остап, твоя сопилка? А ну-ка козачкa! Фома, берись в боки! Ну! вот так! Гей, гоп!»
Я был тогда малый подвижной. Старость проклятая! теперь уже не пойду так; вместо всех выкрутасов ноги только спотыкаются. Долго глядел дед на нас, сидя с чумаками. Я замечаю, что у него ноги не постоят на месте: так, как будто их что-нибудь дергает.
«Смотри, Фома», сказал Остап: «если старый хрен не пойдет танцовать». Что ж вы думаете? не успел он сказать — не вытерпел старичина! захотелось, знаете, прихвастнуть пред чумаками. «Вишь, чортовы дети! разве так танцуют? Вот как танцуют!» сказал он, поднявшись на ноги, протянув руки и ударив каблуками.
Ну, нечего сказать, танцовать-то он танцовал так, хоть бы и с гетманшею. Мы посторонились, и пошел хрен вывертывать ногами по всему гладкому месту, которое было возле грядки с огурцами. Только что дошел, однакож, до половины и хотел разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою штуку, не подымаются ноги, да и только! что за пропасть! разогнался снова, дошел до середины — не берет! что хочь делай — не берет, да и не берет! ноги, как деревянные, стали. «Вишь дьявольское место! вишь сатанинское наваждение! Впутается же Ирод, враг рода человеческого!» Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, любо глядеть; до середины — нет! не вытанцывается, да и полно! «А, шельмовский сатана! чтоб ты подавился гнилою дынею! чтоб еще маленьким издохнул, собачий сын! вот на старость наделал стыда какого!» — и в самом деле сзади кто-то засмеялся. Оглянулся: ни баштану, ни чумаков, ничего; назади, впереди, по сторонам гладкое поле. «Э! ссс… вот тебе на!» Начал прищуривать глаза — место, кажись, не совсем незнакомое! Сбоку лес, из-за леса торчал какой-то шест и виделся прочь далеко в небе. Что за пропасть, да это голубятня, что у попа в огороде! с другой стороны тоже что-то сереет; вгляделся: гумно волостного писаря. Вот куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругом, наткнулся он на дорожку. Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. «Быть завтра большому ветру!» подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка. Вишь! стал дед и руками подперся в боки и глядит: свечка потухла вдали, и немного подалее загорелась другая. «Клад!» закричал дед: «я ставлю бог знает что, если не клад!» и уже поплевал было в руки чтобы копать, да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты, «Эх, жаль, ну, кто знает? может быть, стоит только поднять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего делать, назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после!»
Вот, перетянувши сломленную, видно, вихрем порядочную ветку дерева, навалил он ее на ту могилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть; мелькнул плетень. «Ну, так! не говорил ли я», подумал дед, «что это попова левада. Вот и плетень его! теперь и версты нет до баштана». Поздненько, однакож, пришел он домой и галушек не захотел есть. Разбудивши брата Остапа, спросил только, давно ли уехали чумаки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал было спрашивать: «А куда тебя, дед, черти дели сегодня?» — «Не спрашивай», сказал он, завертываясь еще крепче: «не спрашивай, Остап, не то поседеешь!» И захрапел так, что воробьи, которые забрались было на баштан, поподымались с перепугу на воздух. Но где уж там ему спалось? Нечего сказать, хитрая была бестия, дай боже ему царствие небесное! умел отделаться всегда. Иной раз такую запоет песню, что губы станешь кусать.
На другой день, чуть только стало смеркаться в поле, дед надел свитку, подпоясался, взял подмышку заступ и лопату, надел на голову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы полою и пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень и низенький дубовый лес. Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в поле. Кажись, та самая! Вышел и на поле: место точь-в-точь вчерашнее: вон и голубятня торчит; но гумна не видно. «Нет, это не то место. То, стало быть, подалее; нужно, видно, поворотить к гумну!» Поворотил назад, стал итти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нет! Опять поворотил поближе к голубятне — гумно спряталось. В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова к гумну — голубятня пропала; к голубятне — гумно пропало. «А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть!» А дождь пустился как будто из ведра. Вот, скинувши новые сапоги и обвернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез в курень, промокши насквозь, накрылся тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать чорта такими словами, каких я еще отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы, верно, покраснел, если бы случилось это среди дня. На другой день проснулся, смотрю: уж дед ходит по баштану, как ни в чем не бывало, и прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять старичина разговорился, стал пугать меньшего брата, что он обменяет его на кур вместо арбуза; а пообедавши, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть; и дал, нам забавляться, дыню, свернувшуюся в три погибели, словно змея, которую называл он турецкою. Теперь таких дынь я нигде и не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались. Ввечеру, уже повечерявши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места, не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы: «проклятое место!», взошел на середину, где не вытанцывалось позавчера, и ударил всердцах заступом. Глядь, вокруг него опять то же самое поле: с одной стороны торчит голубятня, а с другой гумно. «Ну, хорошо, что догадался взять с собою заступ. Вон и дорожка! вон и могилка стоит! вон и ветка навалена! вон-вон горит и свечка! Как бы только не ошибиться». Потихоньку побежал он, поднявши заступ вверх, как будто бы хотел им попотчевать кабана, затесавшегося на баштан, и остановился перед могилкою. Свечка погасла, на могиле лежал камень, заросший травою. «Этот камень нужно поднять!» подумал дед, и начал обкапывать его со всех сторон. Велик проклятый наметь! Вот, однакож, упершись крепко ногами в землю, пихнул он его с могилы. «Гу!» пошло по долине. «Туда тебе и дорога! Теперь живее пойдет дело». Тут дед остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился было поднести к носу, как вдруг над головою его «чихи!» чихнуло что-то так, что покачнулись деревья и деду забрызгало все лицо. «Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть!» проговорил дед, протирая глаза. Осмотрелся — никого нет. «Нет, не любит, видно, чорт табаку!» продолжал он, кладя рожок в пазуху и принимаясь за заступ. «Дурень же он, а такого табаку ни деду, ни отцу его не доводилось нюхать!» Стал копать — земля мягкая, заступ так и уходит. Вот что-то звякнуло. Выкидавши землю, увидел он котел. «А, голубчик! вот где ты!» вскрикнул дед, подсовывая под него заступ. «А, голубчик, вот где ты!» запищал птичий нос, клюнувши котел. Посторонился дед и выпустил заступ. «А, голубчик, вот где ты!» заблеяла баранья голова с верхушки дерева. «А, голубчик, вот где ты!» заревел медведь, высунувши из-за дерева свое рыло. Дрожь проняла деда. «Да тут страшно слово сказать!» проворчал он про себя. «Тут страшно слово сказать!» пискнул птичий нос. «Страшно слово сказать!» заблеяла баранья голова. «Слово сказать!» ревнул медведь. «Гм…» сказал дед, и сам перепугался. «Гм!» пропищал нос. «Гм!» проблеял баран. «Гм!» заревел медведь.