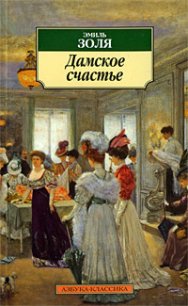Его превосходительство Эжен Ругон - Золя Эмиль (книга регистрации txt) 📗
— Вы сами видите — Марси устал, — говорил Ругон. — Он готов идти на мировую. Подождите немного. Мы получим концессию даром.
И добавил почти с угрозой:
— Предупреждаю вас, мы поссоримся. Никогда не допущу, чтобы один из моих друзей стал жертвой подобного вымогательства…
Наступило молчание. Фиакр ехал по Елисейским полям. Казалось, что седоки, задумавшись, внимательно считают деревья поперечных аллей. Первым нарушил молчание Кан.
— Послушайте, — вполголоса проговорил он, — я ведь ничего другого не ищу, я хотел бы остаться при вас, но сознайтесь, что уже два года…
Он осекся и закончил фразу иначе:
— Одним словом, вы не виноваты, но у вас сейчас связаны руки. Дадим миллион, послушайтесь меня!
— Ни в коем случае! — с силой повторил Ругон. — Через две недели концессия будет ваша, запомните это.
Фиакр остановился у маленького особняка на улице Марбеф. Еще с минуту они спокойно беседовали, не выходя из экипажа и не открывая дверцы, словно у себя в кабинете. Вечером у Ругона обедали Бушар и полковник Жобэлен, он пригласил поэтому к обеду и Кана; тот отказался, сказав, что, к сожалению, уже приглашен в другое место. Теперь великий человек отнесся к концессий со страстной горячностью. Выйдя наконец из фиакра, он дружелюбно прикрыл за собой дверцу и еще раз обменялся поклоном с бывшим депутатом.
— Завтра четверг; я буду у вас, хорошо? — крикнул тот, высовываясь из окна отъезжавшего экипажа.
Ругон вернулся домой в легком ознобе. Он даже не мог прочитать вечерних газет. Хотя было всего пять часов, он прошел в гостиную и, поджидая гостей, стал мерить ее шагами. У него побаливала голова от первого в году яркого январского солнца. Дневная прогулка живо запечатлелась в памяти Ругона. Перед ним прошли все друзья — те, кого он просто терпел, те, кого он боялся, те, к кому питал искреннюю привязанность, — и все толкали его к неминуемой, близкой развязке. Ругону это даже нравилось: он оправдывал их нетерпение и чувствовал, как в нем самом закипает гнев, сотканный из их гнева. У него было такое ощущение, точно его незаметно подвели к краю пропасти. Пришло время сделать отчаянный прыжок.
Внезапно он вспомнил о позабытом было Жилькене. Он позвонил слуге и спросил, не заходил ли опять «человек в зеленом пальто». Слуга никого не видел. Ругон распорядился провести гостя в кабинет, если он явится вечером.
И немедленно доложите мне, — прибавил он, — даже если мы будем сидеть за столом.
В нем снова заговорило любопытство; он пошел за визитной карточкой Жилькена. Слова «очень спешно, дельце забавное», перечитанные несколько раз, остались для него непонятны. При появлении полковника и Бушара Ругон сунул карточку в карман, взволнованный и раздраженный фразой, которая не выходила у него из головы.
Обед был очень простой. Бушар уже два дня как жил на холостом положении, ибо жене его пришлось уехать к больной тетке, о которой, впрочем, она до сих пор ни разу не вспоминала. Полковник, обедавший у Ругона довольно часто, прихватил с собой отпущенного на каникулы сына Огюста. Госпожа Ругон угощала со свойственной ей молчаливой любезностью. Под ее руководством слуги двигались медленно, безостановочно и совершенно беззвучно. Разговор коснулся программы лицеев. Столоначальник цитировал стихи Горация и вспоминал о наградах, полученных им году в 1813. Полковнику хотелось, чтобы в лицеях ввели военную дисциплину. Он объяснил, почему Опост не выдержал в ноябре экзамена на степень бакалавра: у мальчика живой ум, и он чересчур подробными ответами на вопросы преподавателей раздражал этих господ. Огюст слушал, как отец объясняет его провал, и жевал курицу, исподтишка ухмыляясь с видом веселого лентяя.
Во время десерта раздался звонок в передней, видимо взволновавший рассеянного до тех пор Ругона. Решив, что это Жилькен, он живо повернулся к дверям и начал машинально складывать салфетку в ожидании доклада. Но в столовую вошел Дюпуаза. Бывший супрефект уселся в сторонке от стола, как свой человек в доме. Он зачастую приходил рано вечером, сразу после обеда в одном маленьком пансионе предместья Сент-Онорэ.
— Я сбился с ног, — проговорил Дюпуаза, не объясняя, какими утомительными делами он занимался весь день. — Я собирался сразу лечь спать, но потом мне пришла в голову мысль зайти к вам и просмотреть газеты. Они у вас в кабинете, Ругон?
Однако он согласился остаться в столовой, съел предложенную ему грушу и выпил немного вина. Разговор перешел на дороговизну: цены за двадцать лет выросли вдвое. Бушар припомнил, что в его молодости за пару голубей платили пятнадцать су. Когда подали кофе и ликеры, госпожа Ругон незаметно вышла и больше не появлялась. Все перешли в гостиную, чувствуя себя членами одной семьи. Полковник и столоначальник подвинули к камину ломберный стол и стали сдавать карты, обдумывая и предвкушая глубокомысленные комбинации. Облокотившись на круглый столик, Огюст перелистывал комплект иллюстрированного журнала. Дюпуаза скрылся.
— Взгляните, какие у меня карты! — внезапно воскликнул полковник. — Одна лучше другой, не правда ли?
Ругон подошел к нему и кивнул головой. Не успел он забраться в свой уголок и взять каминные щипцы, как слуга шепотом доложил:
— Пришел господин, который был утром.
Ругон вздрогнул. Он не слышал звонка. Жилькен стоял в кабинете, с тростью подмышкой, и, прищурившись, с видом знатока рассматривал скверную гравюру, изображавшую Наполеона на острове Св. Елены. Длинное зеленое пальто Жилькена было застегнуто до подбородка, черный шелковый, почти новый цилиндр лихо сдвинут набекрень.
— Что случилось? — нетерпеливо спросил Ругон, но Жилькен не торопился с ответом. Глядя на гравюру и качая головой, он сказал:
— Здорово сделано, однако! Он, видимо, помирал там от скуки.
Кабинет был освещен единственной лампой, поставленной на край стола. Когда Ругон вошел, ему послышался за креслом с высокой спинкой, стоявшим у камина, какой-то шорох и шелест бумаги; затем воцарилась мертвая тишина; он решил, что это трещала полуистлевшая головня. Сесть Жилькен отказался. Они продолжали стоять у дверей, в тени, отбрасываемой книжным шкапом.
— Что случилось? — повторил Ругон.
Он прибавил, что утром заходил на улицу Гизард. Тогда Жилькен начал рассказывать о своей привратнице, превосходной женщине, которая умирает от чахотки, — в первом этаже их дома очень сыро.
— Но твое спешное дело… Что там такое?
— Погоди. Из-за него-то я и пришел. Мы еще потолкуем… Когда ты поднялся ко мне, ты слышал мяуканье кошки? Представь, она пробралась ко мне по водосточной трубе. Однажды ночью окно осталось открытым, и вдруг я в своей постели нахожу кошку! Она лизала мне бороду. Меня это так насмешило, что я оставил ее у себя.
Наконец он соизволил заговорить о деле. История оказалась длинной. Начал он с рассказа о своей интрижке с прачкой, которая влюбилась в него как-то вечером, при выходе из театра «Амбигю». Бедняжке Эвлали пришлось оставить свои пожитки домовладельцу, потому что ее прежний любовник бросил ее как раз в то время, когда она больше года не платила за квартиру. Вот уже десять дней, как она живет в меблированных комнатах на улице Монмартр, рядом со своей прачечной.
Всю эту неделю Жилькен ночевал у нее, в маленькой темной клетушке, выходившей окнами во двор, в конце коридора на третьем этаже.
Ругон терпеливо слушал.
— Итак, три дня тому назад, — продолжал Жилькен, — я принес пирог и бутылку вина. Мы поужинали в постели, сам понимаешь. Мы рано ложимся спать… Эвлали поднялась около полуночи, чтобы стряхнуть крошки, а потом сразу заснула как мертвая. Не девушка, а настоящий сурок! Мне не спалось. Я задул свечу и лежал с открытыми глазами, как вдруг в соседней комнате начался какой-то спор. Нужно тебе сказать, что обе комнаты имеют общую дверь, которая теперь забита. Голоса затихли, — должно быть, спорщики примирились. Потом я услышал такие странные звуки, что, черт побери, я не удержался и заглянул в замочную скважину… Нет, ты в жизни не угадаешь!