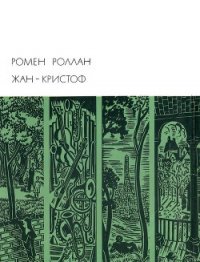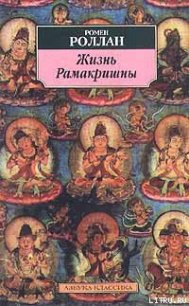Жан-Кристоф. Том II - Роллан Ромен (читать книги txt) 📗
— Не знаю, — продолжала старушка, — что такое он мог ей сказать. У нас был сенокос, и мне было не до нее. Но вечером, вернувшись с поля, мы увидели, что она спокойна. И с тех пор ей с каждым днем становилось легче. Она как будто совсем забыла о своем убожестве. А потом вдруг все начиналось сызнова: она плакала или заговаривала с Готфридом о своей горькой судьбе, а он, словно не расслышав, спокойно продолжал рассказывать о том, что могло унять ее боль, что было ей интересно слушать. Старик уговорил наконец Модесту выйти погулять, — с тех пор как с ней стряслась беда, она ни за что не хотела выходить из дому. Он сперва заставил ее пройтись по саду, потом стал совершать с ней более далекие прогулки — в поля. Вот она и научилась находить дорогу без посторонней помощи и узнавать, что делается вокруг, — совсем как зрячая. Модеста замечает даже такие вещи, на которые мы не обращаем внимания: до всего ей дело, а ведь раньше девушка, кроме как о себе, ни о чем не думала. В этот приход Готфрид оставался у нас дольше, чем всегда. Мы-то не осмеливались просить его погостить еще, но он по собственному желанию пробыл у нас до тех пор, пока не увидел, что Модеста совсем успокоилась. И вот однажды — Модеста была во дворе — я услышала ее смех. Не могу вам даже передать, что я почувствовала. И Готфрид тоже обрадовался. Он сидел возле меня. Мы взглянули друг на друга, и скажу вам, не стыдясь: я от всего сердца поцеловала его. А он говорит:
«Теперь мне, пожалуй, можно уйти. Я уже не нужен».
Я старалась удержать его, но он ответил:
«Нет. Пора уходить. Больше мне нельзя у вас оставаться».
Всем нам было известно, что он как Вечный Жид: нигде не может поселиться надолго. И мы не стали его удерживать. Он ушел, но с тех пор старался, когда только мог, завернуть в наши места; и каждый его приход был радостью для Модесты. Она чувствовала себя все лучше. Снова принялась хозяйничать. Брат ее женился, и она взяла на себя заботу о его детях. Теперь мы никогда не слышим от нее жалоб, и по всему видно, что она довольна. Я часто думаю: была ли бы она счастливее, если б глаза у нее остались целы? Право, иной раз думаешь — уж лучше ослепнуть и не видеть подлых дел и скверных людишек. Испортился народ, все стало хуже. Но я боюсь, как бы не прогневить бога: чем ослепнуть, уж лучше видеть свет, как он ни плох.
Вошла Модеста, и мать перевела разговор на другой предмет. Кристоф собрался было идти, так как уже распогодилось, но его не пускали. Пришлось остаться поужинать и заночевать у новых знакомых. Модеста села рядом с Кристофом и весь вечер не отходила от него. Ему хотелось поговорить по душам с девушкой, судьба которой внушала ему глубокую жалость. Но повода для откровенной беседы не находилось. Модеста расспрашивала о Готфриде. Если Кристоф рассказывал о нем что-нибудь новое для нее, она и радовалась и как будто ревновала. Сама она говорила о Готфриде словно против воли: чувствовалось, что она многое таит про себя — скажет несколько слов и раскается; эти воспоминания стали ее собственностью, она не любила делиться ими с кем бы то ни было. В свое чувство к Готфриду она вкладывала жадность крестьянки, привязанной к своему клочку земли: ее огорчала мысль, что Готфрид может быть кому-нибудь столь же дорог, как ей. Впрочем, она даже и мысли такой не допускала, а Кристоф, читавший в ее душе, не отнимал у нее этой радости. Слушая ее речи о Готфриде, он подметил, что девушка, относившаяся к старику свысока, ослепнув, создала себе новый, далекий от действительности образ; на этот призрак она перенесла всю свою потребность в любви. И до сих пор ничто не нарушило ее иллюзий. С бесстрашной самоуверенностью слепых, спокойно сочиняющих то, чего они не знают, она заявила Кристофу:
— Вы на него похожи.
Он понял, что в последние годы она как бы обжилась в доме с закрытыми ставнями, куда не проникала правда жизни. Когда она научилась видеть в объявшем ее мраке и не замечать его, она, пожалуй, даже страшилась луча правды, который мог бы вторгнуться в ее новый мир. В разговоре с Кристофом она воскрешала десятки ничтожных мелочей, улыбаясь и роняя бессвязные, сбивавшие его с толку фразы. Кристофа раздражал этот лепет: он не мог постичь, как она не повзрослела, пройдя через такие страдания, и пробавляется пустяками; напрасно заговаривал он с нею о более серьезных вещах — отклика не было. Модеста не могла или не желала следовать за ним.
Наконец улеглись спать. Но Кристоф долго лежал без сна. Он думал о Готфриде и старался воссоздать его образ по младенчески наивным воспоминаниям Модесты. Это стоило ему немалых усилий, от которых лишь росла его досада. Печаль охватила Кристофа при мысли, что дядя скончался здесь, что его тело покоилось вот на этой постели. Юноша старался почувствовать смертельную тоску последних мгновений Готфрида, когда он смежил веки, готовясь к смерти, не в силах сказать хоть слово, объясниться со слепой. Как хотелось ему приподнять веки старика и прочесть мысли, скрывавшиеся за ними, разгадать загадку этой души, которая исчезла, не понятая никем, даже самим Готфридом! Мудрость ее и состояла в том, чтобы не гнаться за мудростью, никому и ничему не навязывать своей воли, а отдаться течению жизни, принять ее и любить. Только поэтому его душа и могла постигать таинственную сущность жизни; и если общение с Готфридом было таким благотворным для слепой, для Кристофа и для многих, Кристофу неизвестных, то лишь потому, что вместо обычных слов, выражающих бунт человека против природы, он нес с собой спокойствие природы, примирение с природой. От него исходила та же благодатная сила, что от полей и лесов. Кристоф воскрешал в памяти вечера, проведенные с дядей за городом, их совместные прогулки в годы детства, рассказы и песни по ночам. Вспомнилась ему и последняя их беседа тоскливым зимним утром, на холме, у подножия которого лежал город, и слезы застлали ему глаза. Ему не хотелось спать, не хотелось терять ни одной минуты этого священного бдения в глухой деревушке, где жила душа Готфрида и куда он, Кристоф, случайно забрел. Но, убаюканный журчанием родника и писком летучих мышей, Кристоф уснул здоровым, необоримым сном юности.
Когда он проснулся, сияло солнце; все на ферме уже взялись за работу. Внизу он застал только старуху и детей. Молодой крестьянин с женой были в поле, а Модеста отправилась доить коров; ее искали, но не нашли. Кристоф не стал дожидаться девушку, — он не так уж жаждал повидать ее и, сославшись на недосуг, ушел. Он попросил старуху передать всем привет.
За околицей, на повороте дороги, Кристоф увидел слепую, сидевшую на откосе у заросшей боярышником изгороди. Заслышав его шаги, она поднялась, подошла к нему и, взяв за руку, произнесла с улыбкой:
— Идемте.
Они дошли лугами до цветущей полянки, по которой были разбросаны кресты. Девушка привела гостя к могильной насыпи и сказала:
— Он здесь.
Оба опустились на колени. Кристоф вспомнил о другой могиле, у которой он стоял, преклонив колени вместе с Готфридом, и подумал:
«Скоро и моя очередь».
Но ни тени печали не было сейчас в этой мысли. Земля дышала покоем. Кристоф, приникнув к могиле, беззвучно взывал к Готфриду:
«Войди в меня!..»
Модеста, сложив руки, молилась, чуть шевеля губами. Кончив молиться, она на коленях проползла вокруг могилы, ощупью перебирая стебли трав и цветы, — будто ласкала их; ее умные пальцы видели: они бережно выдергивали мертвые стебли плюща и засохшие фиалки. Затем она встала и оперлась на плиту. Кристоф заметил, что пальцы ее бегло прошлись по буквам, составлявшим имя Готфрида. Она сказала:
— Какая добрая нынче земля!
Модеста протянула руку юноше, он дал ей свою, и девушка провела его ладонью по сырой нагретой земле. Он держал ее руку, и их сплетенные пальцы ушли в мягкую землю. Кристоф обнял Модесту. Она поцеловала его в губы.
Они встали с колен. Модеста подала Кристофу букетик собранных ею свежих фиалок, а завядшие спрятала за корсаж. Отряхнув пыль с колен, они покинули кладбище в полном молчании. Пели жаворонки. Носились в танце белые бабочки. Молодые люди сели на лугу. Дым над крышами деревенских домов подымался в омытое дождем небо. Среди тополей блестела на солнце неподвижная гладь канала. Над лугами и лесами стлалась легкая, как пух, пелена голубоватого света.