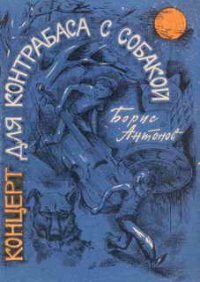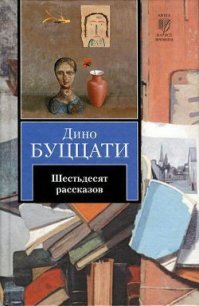Арбат, режимная улица - Ямпольский Борис Самойлович (мир книг txt) 📗
— Вот еврей!
Давид со всей силой обрушил молот; мягкое железо поддалось, расплющилось, и, ощутив его, Давид с каким-то неистовством стал ковать.
— Вот так! Вот так!
Енох и Нафтула, чернобородые, как и отец, с высоко поднятыми молотами, полуголые, раздвинув багровые плечи и вдохнув воздух, ожидали только знака.
— Вот так! Вот так! Ну! — кричал Давид, отковывая.
И Нафтула, ахнув, с наслаждением опустил свой молот, а за ним Енох. Колесом — тяжелые молоты. Слышны только храп да стоны:
— Вот так! Вот так!
И внучонок Давида с закоптелым лицом тоже вертелся вокруг со своим молотом, приговаривал:
— Вот так! Вот так!
А Давид уже только стоял и смотрел на сыновей, посмеиваясь.
— Ты тоже будешь такой? — спросил он меня.
С завистью смотрел я на закоптелого кузнечонка, внука Давидова, важно раздувавшего мех и даже не желавшего смотреть в мою сторону.
В это время дочь Давида принесла пылающий горшок красного борща. Давид вынул из сундучка бутылку водки, поглядел ее на свет, полюбовался, понюхал и, убедившись, что это именно то, что он предполагал, опрокинул в глотку. Сыновья смотрели на отца, и если у него было сладкое лицо, то и у них по лицу разливалась сладость; когда отец крякал, крякали и они.
Давид передал сыновьям бутылку с одной каплей водки.
— Босяки! Вы терпеть не можете, когда отец на языке чувствует водку.
Сыновья покорно взяли бутылку и по очереди нюхали эту каплю.
А Давид приперчил красный борщ так, что он почернел, и глубокой деревянной ложкой стал есть, степенно вылавливая картофель, высасывая кости и все время покручивая головой.
— Ой, — говорила тетка, — так медленно?
— Я ни у кого не вырвал этот кусок. Я его заработал. И я имею время скушать его и почувствовать, какой он: сладкий или горький, — отвечал Давид.
И, пока он ел, тетка стояла перед ним, и громко им любовалась, и хвалила его силу, его грудь, его ремесло, копоть на его лице, трещины на его руках; она забыла все, что выдумывала и говорила раньше, и теперь все ей здесь нравилось.
— Он умеет раздувать огонь, — говорила она про меня, — это же не мальчик, а разбойник. Дайте ему подуть — будет пожар.
— Он знает, где „а" и где „б", — торжественно заявил отец, и Давид посмотрел на меня с уважением. — Он вам будет письма писать, он добрый мальчик.
— В самом деле? — спросил Давид. — Такой маленький, и ты уже знаешь, где „а" и где „б". Поиграй с ним! — прикрикнул он на маленького кузнечонка, в это время показывавшего мне язык. — Он знает, где „а" и где „б", босяк!
Я испытал на себе завистливые взгляды кузнечонка, который плакать хотел от досады, что не знает, где „а" и где „б".
— Сделайте его ковалем, — сказала тетка.
Давид ущипнул меня за щеку, потом стал тискать мускулы на моих руках и несколько раз ударил в грудь.
— Это же коваль из ковалей! А ну!
Я взялся за клещи, схватил кусок железа, сунул его в огонь и стоял очень важно. Тетка восхищенно вздыхала, отец умилялся.
И казалось мне: кузня наполнилась гулом; зашумели мехи, раздувая огонь; свистя и разрезая воздух, пронеслись в темноте раскаленные прутья; подхватили их Давидовы сыновья и заковали, и закричали: „Молодец! Еще!…" Горячий уют кузни обнял меня. Мне было душно и весело, и мир проносился передо мной, раскрашенный в радужные цвета.
— У него золотые руки, ему не железо ковать, ему золото ковать, — с сожалением сказал Давид, поглаживал меня грубой рукой, привыкшей к железу.
— Золотые ручки, — спохватилась тетка. — Ой, какие золотые ручки!
И она моментально передумала. Она уже ни за что не хотела сделать из меня коваля.
— Мой племянник будет ковалем? Как вам это нравится?… Как тебе это нравится? — спрашивала она меня.
Разноречивые чувства охватили мою тетку: то она восхищалась ковалями, то презрительно смеялась над ними. Она всегда была такая.
— Мадам! — сказал Давид. — Вы не знаете, что говорите. Я — простой человек, я коваль, и отец мой коваль, и дед мой коваль, и отец моего деда был такой коваль, какого теперь не найти на всей земле. Когда царица проезжала в золотой карете и карета сломалась, он в секунду починил, она даже не проснулась. Он выпивал ведро водки и мог скушать четверть коровы. И нам никогда не было стыдно, что мы своими двумя руками зарабатываем хлеб. И коваль Давид никогда не скажет сироте: нет, не надо! Надо! Я его беру. Только что он будет кушать? Или вы, мадам, думаете, что ковалю не хочется кушать? Вы так думаете, мадам?
— Он ковалем будет, и я еще кормить его буду! — завертелась тетка. — Отрубями я его буду кормить? Приплатите нам за то, что вы его ковалем сделаете! Приплатите! Вы слышите? — настаивала она.
— Пусть мальчик остается, — уговаривал ее отец. — Надо же его чему-нибудь научить? Пусть свечки делает или монпансье, или подковы. И когда чужой человек берет кусок в рот, чтобы он не хотел вырвать этот кусок.
— Господи! — страстно воскликнула тетка, закатив глаза. — Пусть мои враги делают свечки и монпансье, а мой племянник пусть жжет эти свечки и сосет эти монпансье, чтобы ему было светло и сладко.
В это время звонари поднялись к небу и ударили во все колокола. Из домов выползали косые древние старухи, окутанные тряпьем, полуголые очумелые старики, люди в черных перчатках и люди с крючками вместо рук — все, что гнездилось в недрах хижин.
Безногий солдат в красной фуражке бешено промчался на коляске; с сияющими лицами, о чем-то лопоча, неслись глухонемые. Приседая и раскачиваясь, приближались хромоногие, горбуньи, и цветные рубища их развевались на ветру.
Тяжело прошла женщина с железной ногой, пронесся загадочный человек в синих очках, с изрубленным или обожженным лицом; и тот, что обернул голову чалмой, и тот, кто разгуливал в шкуре зверя; в толпе замелькали: парень с отметиной на лбу и со свороченной челюстью, всегда готовый убить, странный человек с кошачьими глазами — все, кто в детстве меня изумлял, восхищал и пугал.
Вытянув шеи, с криком „Ой, ой-ой" летели они вперед, и я со страхом смотрел на эту бесноватую толпу. Ее качало из стороны в сторону.
Понурые евреи вели танцующих медведей в железных ошейниках и ошалелых лысых мартышек, щелкавших грецкие орехи; колючих ежей, приученных к ласке, и наглых ярко-желтых попугаев, обученных матерщине.
Торопились шаромыжники, каббалисты, продавцы каленых каштанов, кляузник с длинным, изрытым оспой носом, тень от которого падала на все тело; евреи-гладиаторы в туниках, уличные фельдшеры с лекарствами от всех болезней, знахари со снадобьями для любви и нежности, напитками слабительными, укрепляющими, горячащими, — люди фантастических и мрачных ремесел.
За зверями и птицами кто-то провел бычка о двух головах; воровка Слониха показывала ублюдка с головой в кулак и живую черепаху. Соседи наши целой семьей привели своего рыжего мальчика Беню: он удивительно мог в уме все сосчитать, поделить и умножить; его водили по ярмарке, и он за грош решал разные задачки и отвечал на каверзные вопросы, подводил балансы, выводил сальдо, и вся семья, все вместе — и отец, и мать, и дедушка, и малые дети охали и стонали от изумления, когда получалось.
О Беня шепелявый, о друзья моего детства! Черные глаза, обведенные синевой, пламенные глаза еврейских мальчиков, полные слез, тоски и страсти!…
Под колокольный звон воскресных колоколов со всех четырех сторон, по всем трактам и дорогам двигались в местечко, на ярмарку, мужики 999 деревень пани графини Браницкой.
На всех дорогах их встречали маклеры, глашатаи, зазывалы в котелках и жокейках, еле державшихся на макушках, советуя, что купить и где купить. Выбегали навстречу пузатые торговки птицей и пискливые селедочницы и на ходу, прямо с подвод, щупали кур и вываливали в свои корзины живую рыбу. Метались среди возов румяные старички и, показывая мужикам нательные кресты, уговаривали уступить им, а не обманным жидам. Важно надув щеки, стояли свиноторговцы в белых картузах и белых чесучовых пиджаках и улыбались только тогда, когда слышали хрюканье.