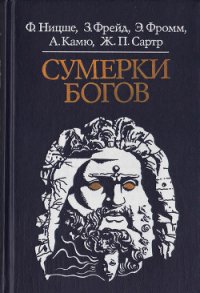Чума - Камю Альбер (прочитать книгу .TXT) 📗
Конечно, во многих домах ставни так и не распахнулись, и семьи в тяжком молчании проводили это вечернее бдение, звенящее от возгласов толпы. Но и тот, кто еще носил траур по погибшим, испытывал чувство глубочайшего облегчения, то ли потому, что перестал бояться за жизнь пощаженных чумой близких, то ли потому, что улеглась тревога за свою собственную жизнь. Но конечно, особенно чурались всеобщего веселья те семьи, где в этот самый час больной боролся с чумой в лазарете, или те, что находились в карантине или даже дома, ожидая, что бич Божий покончит с ними, как покончил он и со многими другими. Правда, и в этих семьях теплилась надежда, но ее на всякий случай хранили про запас, запрещали себе думать о ней, прежде чем не приобретут на нее полное право. И это ожидание, это немотствующее бодрствование где-то на полпути между агонией и радостью казалось им еще более жестоким среди всеобщего ликования.
Но эти исключения не умаляли радость других. Разумеется, чума еще не кончилась, она это еще докажет. Однако каждый уже заглядывал на несколько недель вперед, представляя себе, как со свистом понесутся по рельсам поезда, а корабли будут бороздить сверкающую гладь моря. На следующий день умы поуспокоятся и снова родятся сомнения. Но в ту минуту весь город как бы встряхнулся, выбрался на простор из мрачных стылых укрытий, где глубоко вросли в землю его каменные корни, и наконец-то стронулся с места, неся груз выживших. В тот вечер Тарру, Риэ, Рамбер и другие шагали с толпой и точно так же, как и все, чувствовали, как уходит из-под их ног земля. Еще долго Тарру и Риэ, свернув с бульваров, слышали у себя за спиной радостный гул, хотя уже углубились в пустынные улочки и шли мимо наглухо закрытых ставен. И все из-за той же проклятой усталости они не могли отделить страдания, продолжавшиеся за этими ставнями, от веселья, заливавшего чуть подальше центр города. Лик приближающегося освобождения был орошен слезами и сиял улыбкой.
В ту самую минуту, когда радостный гул особенно окреп, Тарру вдруг остановился. По темной мостовой легко проскользнула тень. Кошка! В городе их не видели с самой весны. На секунду кошка замерла посреди мостовой, нерешительно присела, облизала лапку и, быстро проведя ею за правым ушком, снова бесшумно двинулась к противоположному тротуару и исчезла во мраке.
Тарру улыбнулся. Вот уж старичок напротив будет доволен!..
Но именно теперь, когда чума, казалось, уходит вспять, заползает обратно в ту неведомую нору, откуда она бесшумно выползла весной, нашелся в городе один человек, которого, если верить записям Тарру, уход ее поверг в уныние, и человеком этим был Коттар.
Если говорить начистоту, то с того дня, когда кривая заболеваний пошла вниз, записи Тарру приобрели какой-то странный характер. Было ли то следствием усталости – неизвестно, но почерк стал неразборчивым, да и сам автор все время перескакивал с одной темы на другую. Более того, впервые эти записи лишились своей былой объективности и, напротив, все чаще и чаще попадались в них личные соображения. Среди довольно длинного рассказа о Коттаре вкраплено несколько слов о старичке-кошкоплюе. По словам Тарру, чума отнюдь не умалила его уважения к этому персонажу, он интересовался им после эпидемии –так же, как и до нее, но, к сожалению, больше он уже не сможет им интересоваться, хотя по-прежнему относится к старику весьма благожелательно. Он попытался его увидеть. Через несколько дней после двадцать пятого января он занял наблюдательный пост на углу их переулка. Кошки, памятуя о заветном месте встреч, снова мирно грелись в солнечных лужицах. Но в положенный час ставни упорно оставались закрытыми. И все последующие дни Тарру ни разу не видел, чтобы их открывали. Из чего автор заключил, что старичок или обиделся, или помер; если он обиделся, то потому, что считал себя правым, а чума его опровергла, а если он помер, следовало бы поразмыслить о том, не был ли он святым, как и их старик астматик. Сам Тарру так не думал, но считал, что случай со старичком можно рассматривать как некое «указание». «Возможно, – гласят записные книжки, – человек способен приблизиться лишь к подступам святости. Если так, то пришлось бы довольствоваться скромным и милосердным сатанизмом».
Вперемешку с записями о Коттаре встречаются также многочисленные и разбросанные в беспорядке замечания то о Гране, уже выздоровевшем и снова взявшемся за работу, будто ничего и не случилось, то о матери доктора Риэ. Скрупулезно, с мельчайшими подробностями записаны беседы ее с Тарру, что неизбежно при совместном проживании под одной крышей; манеры старушки, ее улыбка, ее замечания насчет чумы. Особенно Тарру подчеркивает ее необыкновенную способность стушевываться, ее привычку изъясняться только самыми простыми фразами, ее особое пристрастие к окошку, выходящему на тихую улочку, возле которого она просиживала все вечера, тихонько сложив руки на коленях, чуть выпрямив стан, и все глядела, пока сумерки не затопят комнату, а сама она не превратится в черную тень, еле выделяющуюся на фоне серой дымки, которая, постепенно сгущаясь, поглотит ее неподвижный силуэт; о легкости, с которой она передвигается по квартире, о ее доброте, которой светится все ее существо, каждый ее жест, каждое ее слово, хотя непосредственно она вроде бы ничего особенною при Тарру не сделала, и, наконец, он пишет, что старушка постигает все не умом, а сердцем и что, оставаясь в тени, в молчании, она умеет быть равной любому свету, будьте даже свет чумы. Впрочем, здесь почерк Тарру становится каким-то странным, словно рука пишущего ослабла. Следующие за этим строчки почти невозможно разобрать, и как бы в доказательство этой слабости последние слова записи являются в то же время первыми личными высказываниями: «Моя мать была такая же, я любил в ней эту способность добровольно стушевываться, и больше всего мне хотелось бы быть с ней. Прошло уже восемь лет, но я никак не могу решиться сказать, что она умерла. Просто стушевалась немного больше, чем обычно, а когда я обернулся – ее уже нет».
Но вернемся к Коттару. С тех пор как эпидемия пошла на убыль, Коттар под разными выдуманными предлогами зачастил к Риэ. Но в действительности являлся он лишь затем, чтобы разузнать у врача прогнозы насчет дальнейшего развития эпидемии. «Значит, вы считаете, что она может кончиться вот так, сразу, ни с того ни с сего?» В этом отношении он был настроен скептически или, во всяком случае, хотел показать, что настроен именно так. Но его назойливость доказывала, что в душе он не так уж был в этом убежден. С середины января Риэ стал отвечать на его вопросы более оптимистическим тоном. И всякий раз ответы врача не только не радовали Коттара, но, наоборот, вызывали в нем различные эмоции – в иные дни уныние, в иные – досаду. Потом уж доктор Риэ стал говорить ему, что, несмотря на благоприятные признаки и статистические данные, рано еще кричать «ура».
– Другими словами, – заметил Коттар, – раз ничего не известно, значит, не сегодня завтра все опять может начаться сначала?
– Да, но в равной мере может случиться, что эпидемия пойдет на убыль еще быстрее.
Эта неуверенность, причинявшая тревогу всем и каждому, явно приносила успокоение Коттару, и в присутствии Тарру он не раз заводил разговоры с соседними торговцами и старался как можно шире распространить мнение доктора Риэ. Впрочем, особого труда это не представляло. Ибо после лихорадочного возбуждения, вызванного первыми победными реляциями, многих снова охватило сомнение, оказавшееся куда более стойким, нежели ликование по поводу заявления префектуры. Зрелище растревоженного города успокаивало Коттара. Но в иные дни он снова падал духом.
– Рано или поздно, – твердил он Тарру, – город все равно объявят открытым. И вот увидите, тогда все от меня отвернутся.
Еще до знаменитого двадцать пятого января все в Оране обратили внимание на переменчивый нрав Коттара. Сколько терпения потратил он, стремясь обаять весь квартал, всех своих соседей, – и вдруг на несколько дней круто порывал с ними, сиднем сидел дома. Во всяком случае, таково было внешнее впечатление, он отходил от людей и, как прежде, замыкался в своей диковатости. Его не видели ни в ресторанах, ни в театре, ни даже в любимых кафе. И все же чувствовалось, что он не вернулся к прежнему размеренному и незаметному существованию, какое вел до эпидемии. Теперь он не вылезал из дому и даже обед ему приносили из соседнего ресторанчика. Только вечерами он пробегал по улицам, делал необходимые покупки, пулей выскакивал из магазина и сворачивал в самые пустынные улицы. Тарру случайно натыкался на Кот-тара во время этих одиноких пробежек, но не мог вырвать у него ни слова, тот только бормотал что-то в ответ. Потом вдруг, без всякой видимой причины, Коттар снова делался общительным, много и долго распространялся о чуме, выведывал мнение других на этот счет и с явным удовольствием смешивался с текущей по улицам толпой.