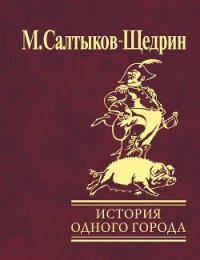Господа Головлевы - Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (читаем книги .txt) 📗
– Евпраксея Никитишна! а Евпраксея Никитишна! – взывает пьяненький Прохор с барского крыльца.
– Чего надобно?
– Ключ от чаю пожалуйте, барин чаю просят!
– Подождет… кикимора!
В короткое время Порфирий Владимирыч совсем одичал. Весь обычный ход его жизни был взбудоражен и извращен, но он как-то уж перестал обращать на это внимание. Он ничего не требовал от жизни, кроме того, чтоб его не тревожили в его последнем убежище – в кабинете. Насколько он прежде был придирчив и надоедлив в отношениях к окружающим, настолько же теперь сделался боязлив и угрюмо-покорен. Казалось, всякое общение с действительной жизнью прекратилось для него. Ничего бы не слышать, никого бы не видеть – вот чего он желал. Евпраксеюшка могла целыми днями не показываться в доме, людишки могли сколько хотели вольничать и бездельничать на дворе – он ко всему относился безучастно, как будто ничего не было. Прежде, если б конторщик позволил себе хотя малейшую неаккуратность в доставлении рапортичек о состоянии различных отраслей хозяйственного управления, он наверное истиранил бы его поучениями; теперь – ему по целым неделям приходилось сидеть без рапортичек, и он только изредка тяготился этим, а именно, когда ему нужна была цифра для подкрепления каких-нибудь фантастических расчетов. Зато в кабинете, один на один с самим собою, он чувствовал себя полным хозяином, имеющим возможность праздномыслить, сколько душе угодно. Подобно тому как оба брата его умерли, одержимые запоем, так точно и он страдал тою же болезнью. Только это был запой иного рода – запой праздномыслия. Запершись в кабинете и засевши за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой: строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом.
В этом омуте фантастических действий и образов главную роль играла какая-то болезненная жажда стяжания. Хотя Порфирий Владимирыч и всегда вообще был мелочен и наклонен к кляузе, но, благодаря его практической нелепости, никаких прямых выгод лично для него от этих наклонностей не получалось. Он надоедал, томил, тиранил (преимущественно самых беззащитных людей, которые, так сказать, сами напрашивались на обиду), но и сам чаще всего терял от своей затейливости. Теперь эти свойства всецело перенеслись на отвлеченную, фантастическую почву, где уже не имелось места ни для отпора, ни для оправданий, где не было ни сильных, ни слабых, где не существовало ни полиции, ни мировых судов (или, лучше сказать, существовали, но единственно в видах ограждения его, Иудушкиных, интересов) и где, следовательно, он мог свободно опутывать целый мир сетью кляуз, притеснений и обид.
Он любил мысленно вымучить, разорить, обездолить, пососать кровь. Перебирал, одну за другой, все отрасли своего хозяйства: лес, скотный двор, хлеб, луга и проч., и на каждой созидал узорчатое здание фантастических притеснений, сопровождаемых самыми сложными расчетами, куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общие бедствия, и приобретение ценных бумаг – словом сказать, целый запутанный мир праздных помещичьих идеалов. А так как тут все зависело от произвольно предполагаемых переплат или недоплат, то каждая переплаченная или недоплаченная копейка служила поводом для переделки всего здания, которое таким образом видоизменялось до бесконечности. Затем, когда утомленная мысль уже не в силах была следить с должным вниманием за всеми подробностями спутанных выкладок по операциям стяжания, он переносил арену своей фантазии на вымыслы, более растяжимые. Припоминал все столкновения и пререкания, какие случались у него с людьми не только в недавнее время, но и в самой отдаленной молодости, и разработывал их с таким расчетом, что всегда из всякого столкновения выходил победителем. Он мстил мысленно своим бывшим сослуживцам по департаменту, которые опередили его по службе и растравили его самолюбие настолько, что заставили отказаться от служебной карьеры; мстил однокашникам по школе, которые некогда пользовались своею физической силой, чтоб дразнить и притеснять его; мстил соседям по имению, которые давали отпор его притязаниям и отстаивали свои права; мстил слугам, которые когда-нибудь сказали ему грубое слово или просто не оказали достаточной почтительности; мстил маменьке Арине Петровне за то, что она просадила много денег на устройство Погорелки, денег, которые, «по всем правам», следовали ему; мстил братцу Степке-балбесу за то, что он прозвал его Иудушкой; мстил тетеньке Варваре Михайловне за то, что она, в то время когда уж никто этого не ждал, вдруг народила детей «с бору да с сосенки», вследствие чего сельцо Горюшкино навсегда ускользнуло из головлевского рода. Мстил живым, мстил мертвым.
Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения; земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало угрожающее выражение. И, по мере того как росла фантазия, весь воздух кругом него населялся призраками, с которыми он вступал в воображаемую борьбу.
Существование его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь мир был у его ног, разумеется, тот немудреный мир, который был доступен его скудному миросозерцанию. Каждый простейший мотив он мог варьировать бесконечно, за каждый мог по нескольку раз приниматься сызнова, разработывая всякий раз на новый манер. Это был своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. Ничем не ограничиваемое воображение создает мнимую действительность, которая, вследствие постоянного возбуждения умственных сил, претворяется в конкретную, почти осязаемую. Это – не вера, не убеждение, а именно умственное распутство, экстаз. Люди обесчеловечиваются; их лица искажаются, глаза горят, язык произносит непроизвольные речи, тело производит непроизвольные движения.
Порфирий Владимирыч был счастлив. Он плотно запирал окна и двери, чтоб не слышать, спускал шторы, чтоб не видеть. Все обычные жизненные отправления, которые прямо не соприкасались с миром его фантазии, он делал на скорую руку, почти с отвращением. Когда пьяненький Прохор стучался в дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, он нетерпеливо вбегал в столовую, наперекор всем прежним привычкам, спеша съедал свои три перемены кушанья и опять скрывался в кабинет. Даже в манерах у него, при столкновении с живыми людьми, явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо-насмешливое, как будто он в одно и то же время и боялся и вызывал. Утром он спешил встать как можно раньше, чтобы сейчас же приняться за работу. Молитвенное стояние сократил; слова молитвы произносил безучастно, не вникая в их смысл; крестные знамения и воздеяния рук творил машинально, неотчетливо. Даже представление об аде и его мучительных возмездиях (за каждый грех – возмездие особенное), по-видимому, покинуло его.
А Евпраксеюшка между тем млела в чаду плотского вожделения. Гарцуя в нерешимости между конторщиком Игнатом и кучером Архипушкой и в то же время кося глазами на краснорожего плотника Илюшу, который с целой артелью подрядился вывесить господский погреб, она ничего не замечала, что делается в барском доме. Она думала, что барин какую-нибудь «новую комедию» разыгрывает, и немало веселых слов было произнесено по этому поводу в дружеской компании почувствовавших себя на свободе людишек. Но однажды, как-то случайно, зашла она в столовую в то время, когда Иудушка наскоро доедал кусок жареного гуся, и вдруг ей сделалось жутко.
Порфирий Владимирыч сидел в засаленном халате, из которого местами выбивалась уж вата; он был бледен, нечесан, оброс какой-то щетиной вместо бороды.
– Баринушка! что такое? что случилось? – бросилась она к нему в испуге.
Но Порфирий Владимирыч только глупо-язвительно улыбнулся в ответ на ее восклицание, словно хотел сказать: а ну-ка, попробуй теперь меня чем-нибудь уязвить!