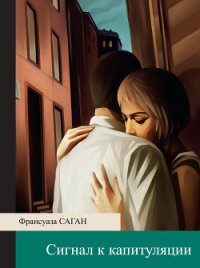Звездный билет - Аксенов Василий Павлович (лучшие бесплатные книги .txt) 📗
– Вас не интересуют чудеса? – спрашиваю я.
– Какие же это чудеса? – удивляется Юрка.
– А ты думаешь, чудеса – это Змей-Горыныч и Баба-Яга?
Я вспоминаю, как несколько лет назад эти ребята построили в Доме пионеров яхту, управляемую по радио. Вот это было чудо! Какой восторг горел тогда в их глазах!
– Ребята, хотите я устрою вас работать на завод?
– Какой еще завод?
– Завод, где делают чудеса.
– Конкретней, – говорит Алик. – Что это за завод?
– Конкретней нельзя об этом заводе.
Я снова приоткрываю окно, и «бип-бип-бип» влетает в комнату.
Многозначительно подмигиваю. Это мой последний козырь. Последний раз я пытаюсь отговорить их от задуманной авантюры.
– Да ну? – говорят ребята. – Можешь устроить на такой завод?
– Попытаюсь. Если станете людьми…
– Отпадает, – Димка машет рукой, – тогда отпадает.
– Почему отпадает? – говорю я, чувствуя себя последним кретином. – Выбросьте из головы свои дурацкие прожекты…
– Эх, жалко, – прерывает меня Юрка, – мы ведь скоро на Балтику уезжаем, Виктор. Если бы нам не надо было уезжать…
– Хватит дурачиться.
Молчат.
– Хотите работать на таком заводе?
Молчат.
– И уехать на Балтику тоже хочется?
Молчат.
– Роковая дилемма, значит? Подбросим монетку?
Молчат.
– Если орлом, то на завод. Идет? Бросаю. Честно говоря, я немного умею бросать так, чтобы получалось то, что нужно. Орел. Упала орлом.
– Бросай с трех раз, – хрипло говорит Димка. – Дай-ка лучше я сам брошу.
Кажется, он тоже немного умеет бросать так, чтобы получалось то, что ему хочется.
Глава 3
У меня в лаборатории можно снимать самый нелепый научно-фантастический фильм. Один только пульт чего стоит! Мигание красных лампочек и покачивание стрелок больших и маленьких, кнопки, кнопки, рычажки… А длинный стол с приборами? А диаграммы на стенах? Но самое чудовищное и таинственное – это система приточно-вытяжной вентиляции. А звуки, звуки! Вот это потрескивание и ти-хо-е гудение. Потрясающую сцену можно было бы снять здесь. Запечатлеть, скажем, меня у пульта. Стою с остекленевшими глазами и с капельками холодного пота на лбу. Крупный план: капля течет по носогубной складке.
Руки! Ходят ходуном.
Я люблю вдруг осмотреть свою лабораторию глазами непосвященного человека. Это всегда забавно, но священного трепета в себе я уже не могу вызвать. Все-таки я все здесь знаю, все до последнего винтика, до самой маленькой проволочки. Любой прибор я смогу разобрать и собрать с закрытыми глазами.
Приборы, мои друзья! Вы всегда такие чистенькие и всегда совершенно точно знаете, что вы должны делать в следующую минуту. Разумеется, если вас включила опытная рука. Хотел бы я быть таким, как вы, приборы, чтобы всегда знать, что делать в следующую минуту, час, день, месяц. Но вам легко, приборы, вы только выполняете задания. До этого дня я тоже только выполнял задания, правда, не так точно, как вы, приборы. Что может быть лучше: получать и выполнять задания? Это мечта каждого скромного человека. Что может быть хуже самостоятельности? Для скромного человека, конечно.
Что может быть прекрасней, сладостней самостоятельности? Когда она появляется у тебя (я имею в виду это чувство наглости, решительности и какого-то душевного трепета), ты дрожишь над ней, как над хрупкой вазой. А когда кокнешь ее, думаешь: к счастью, к лучшему: хлопот не оберешься с этой штукой, ну ее совсем!
Так начинать мне этот проклятый опыт или нет? Выхожу в коридор покурить. Монтер Илюшка сидит на подоконнике и зачищает концы провода.
Начинаем обсуждать с ним перспективы футбольного сезона. Илюшка родился в Ленинграде и, хотя совершенно не помнит города, фанатически болеет за «Адмиралтейца». Я над ним всегда подтруниваю по этому поводу. Сегодня я говорю, что вообще-то «Адмиралтеец» – это здорово придумано, но можно было бы назвать команду и иначе. «Конногвардеец», скажем, или «Камер-юнкер». Илья кипятится. По коридору мимо нас проходит мой друг Борис и еще один сотрудник нашего института, очень важный. Ловлю конец фразы моего друга:
«…чрезвычайно!»
«Люди работают, – думаю я, – вкручивают мозги членам Ученого совета».
Оставляю Илюшку с его грезами о победах «ленинградской школы футбола», с его уже зачищенными и еще не зачищенными концами и иду взглянуть на камеру.
Заглядываю в окошечко. Там все в порядке. Вся живность здорова и невредима.
Честно говоря, система у меня уже собрана, и остается только присоединить к ней кое-какие устройства камеры. Через несколько минут я могу начать свой опыт. Надо начинать, чего там думать! Ведь это же мой опыт. Первый плод моей самостоятельности (я имею в виду это чувство). Я его придумал и продумал сам с начала и до конца. И он может меня погубить. Полтора часа будут гореть лампочки, покачиваться стрелки, тихо гудеть и щелкать разные приборы. Дня два на расшифровку результатов, и все станет ясным. Он или погубит меня или разочарует очень надолго. То есть меня-то он не погубит, я останусь цел, он просто может перечеркнуть последние три года моей работы. А если этого не произойдет, будет поставлен крест на мою самостоятельность. Странно работает моя голова, но это моя голова. Это мой опыт, и я уже стал фанатиком, я его уже люблю, хотя еще не соединил систему. Соединить или сначала… проверить еще раз записи?
Сажусь к столу и открываю (в который раз!) синенькую тетрадочку. Я ее всю исписал в свободное время, в свободное от диссертации время, в вечернее время на третьем этаже «Барселоны» под веселое ржание магнитофона и вопли тети Эльвы. Луна вплывала в железнодорожный билет над соседней крышей. Это чрезвычайно вдохновляло. Запах сирени и автомобильных выхлопов, сладковатый запах нечистот из-под арки, девушки цок-цок-цок каблучками прямо под окном, а на звонки Шурочки мама говорила, что я в библиотеке, насвистывание Димки, Алика и Юрки, и их веселые голоса, «Рябинушка» и детский плач – вся симфония и весь суп «Барселоны» окружали меня и затыкали мне уши и ноздри. И я написал эту тетрадку, воруя время у своей диссертации. Зачем мне сейчас ее читать? Я знаю ее всю наизусть. Читать ее еще, перелистывать! Выбросить в форточку, и дело с концом!
– Разрешите полюбопытствовать, Витя?
На тетрадь из-за моей спины опускается широкая худая рука со следами удаленной татуировки. Это шеф. Что его занесло ко мне в это время? Шеф – мой друг и учитель и автор моей диссертации. Прошу не думать обо мне плохо.
Диссертацию написал я сам. Я три года работал, как негр на плантации. Но работал я над гипотезой шефа, над его идеей. Три года назад он бросил мне одну из своих бесчисленных идей. Это его работа – забрасывать идеи.
Пользуясь спортивной терминологией, можно сказать, что шеф у нас в институте играет центра. Он распасовывает нам свои идеи, а мы подхватываем их и тащим к воротам. Это нормально, везде, в общем-то, делают так же. Но эта тетрадка – это мой личный мяч. Я сам пронес его через все поле и вот сейчас остановился и не знаю: бить или не бить?
Шеф быстро переворачивает страницы, а я волнуюсь и смотрю на его тупоносые башмаки и хорошо отглаженные серые брюки из-под белого халата. У шефа худые руки и лицо, но вообще-то он грузного сложения. Шеф – человек потрясающе интересной судьбы. Те, кто не знает этого, видят в нем обычную фигуру: профессор как профессор. Но я вхож к нему в дом и видел фотоальбомы.
Серию странных юношей, с чубом из-под папахи и с хулиганским изгибом губ; выпученные глаза георгиевского кавалера; лихой и леденящий прищур из-под козырька, а нога на подножке броневика; широкогрудый, весь в патронных лентах; и еще один, в странной широкополой шляпе, видимо, захваченной в театре, – и все это наш шеф. Когда я смотрю на теперешнего шефа, мне кажется, что все эти люди: драгун, революционер, красный партизан, голодный рабфаковец – разбежались и бросились в одну кучу с целью слепить из своих тел монумент таким, каков он есть сейчас: грузный, огромный, беловолосый и спокойный, в хорошо отглаженных серых брюках.