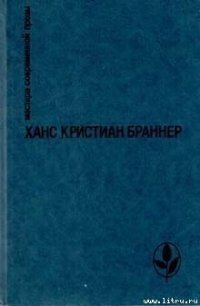Последний рейс - Конецкий Виктор Викторович (читать книги без регистрации .txt) 📗
— А на других-то судах? — спрашиваю.
— В том и суть! Только на советский пароход насели! Пока не заштормило да ветром их, мать их, не сдуло, так в ентом Дюнкерке и простояли. А ты: «комары»! На что прикажешь дымовые шашки списывать? Кто тебе в такой конфуз и безобразие поверит? Слава богу, запретил толпе огнетушители трогать… С насекомыми нынче на планете, скажу честно, не побоюсь, сплошное блядство без всяких, как Андрияныч говорил, царствие ему небесное, нюансов…
— С волками жить — по-волчьи выть, — решился наконец открыть рот подкапельный. — Ехали в Гамбург на приемку. В купе попутчица — дородная фрау с пузом. Пошла в гальюн и пропала. Оказались мгновенные роды: она в гальюне сильно натужилась и ребенок выскочил прямо в трубу. Ну, женщина обыкновенно в обморок: где дите? На станции поезд законсервировали, и ей обвинение, что специально все подстроила. Мужа самолетом вызвали. Но она доказала, что без злого смысла, а все по природе. И пошли они со станции обратно по путям, тельце искать. Встречают обходчицу, и оказывается, дите живо и здорово, не разбилось дите-то. Как катушка ниткой в пуповину обмотано было. Вот пуповина-то по ходу дела, поезда то есть, раскручивалась, и тем полет дитя тормозило. А потом, когда дите опустилось на путь-то, тут пуповина враз и лопнула. Вот так у капиталистов бывает.
— Н-да, хорошо мы тут у вас посидели, — сказал я. — Не скучно вам тут.
Пожал Фоме левую, свободную от кишки руку, бедолагам пожал торчащие из-под коротких одеял ноги, пообещал еще Фомичу, что если занесет на Колыму или на Енисей, то обязательно привезу ему презент — не меньше пуда копченого муксуна.
И с этим покинул больницу имени не известного мне чудака Чудновского.
Поймал такси и рванул на родную Петроградскую. На Большом проспекте вылез и пошел в парикмахерскую. Это у меня некий ритуал перед значительными событиями, да и внешний вид несколько омолаживается, когда лохмы обкорнаешь.
В приемном салоне, где тоже, конечно, висели пудовые и вечно не идущие часы, просидел в очереди всего минут сорок.
Уж кого на нашем советском свете бабы ненавидят люто, то это парикмахерши мужиков, которые под обыкновенную «канадку» стригутся: сорок копеек и никакого навару.
Оттомился в предбаннике. Наконец сажусь в кресло к этакой обаяшке в кудряшках. Она вяло грязную удавку-простыню мне на шею набрасывает и одновременно тестует соседку-мастера. (Мне, некстати говоря, очень приятно бывает, когда я вспоминаю, что капитана тоже величают «мастером».)
Ну— с, тест парикмахерша соседке-мастеру задает такой: «Что такое пони?»
Та бурчит, что про пони не слышала, но вот ножницы у нее тупые, а дядя Вася-точильщик давно не приходил, опять запил, верное дело…
Моя мастерица начинает поигрывать моей головой кроваво наманикюренными пальцами, наклоняя и отклоняя башку в разные — бессмысленные, с моей точки зрения, — стороны. А ведь дело тут в том, что толкнуть чужую башку «в любую сторону твоей души», как Окуджава поет, большое удовольствие: власть, власть, власть — она самая!…
Толкает она мою башку и объясняет тупице-соседке, что пони — это смесь коня с ослом. Я сразу лезу не в свое корыто — это у меня с раннего детства — и объясняю, что смесь коня с ослом называется мул. Она, ясное дело:
— Я не с вами говорю, помалкивайте! — и щелкает ножницами уже у меня в ухе, а не на черепе.
Но я-то давно привык на опасность идти грудью -меня ножничными щелчками в каком-то там ухе не напугаешь. А моя мастерица продолжает вразумлять соседку в том, что пони не имеет шерсти и потому не способна к продолжению рода, так как она есть противоестественная помесь лошади и осла.
Я говорю, что пони — маленькая лошадка, их в русских цирках и английских парках пруд пруди, и что все они, как и ослы, покрыты шерстью. Моя мастерица начинает заинтересовываться моей эрудицией и говорит:
— Я лично ни одного осла в жизни не видела.
Я говорю, что она опять ошибается, ибо в этот вот самый момент видит перед собой самого натурального осла.
— Вы кого в виду имеете? — спрашивает мастерица.
Я говорю, что пусть она посмотрит в зеркало — там и сидит настоящий, стопроцентный осел, то есть ее покорный клиент.
— Какой вы осел, если у вас такой пиджак дорогой, — говорит она.
— Пиджак у меня дешевый, но не в том дело, — говорю я.
— А в чем? — спрашивает она.
— А в том, — объясняю я, — что я к вам подстригаться сел.
— Как это понимать? — спрашивает она и начинает тупой опасной бритвой мне шею и виски скрести, то есть шалит она уже в непосредственной близости от моих главных жизненных центров.
— А так и понимать, — говорю я, — что я полный осел, если к вам в кресло залез. Мне бы от вас держаться на дистанции ракеты «воздух — воздух».
— Ну, — говорит она ласково и вежливо, — теперь и держись за воздух!
Минут пять была полная тишина, во все время которой я держался за воздух обеими ногами: руки-то простыней связаны! Потом она, опять же не говоря ни слова лишнего, берется за грушу с одеколоновой бутылкой. Тут я говорю, что этого, пожалуйста, не надо. Она сдергивает с моей шеи удавку из грязной простыни и говорит:
— Сорок копеек!
Я встаю, начинаю считать медяки и думаю: «Ну, мать твою! Даже копейки тебе на чай не дам!» Ибо выгляжу я на экране зеркала как стопроцентный австралийский не осел, а баран, которого самый бездарный австралийский стригаль кромсал, вылакав до этого литр гаванского рома…
И все-таки удивительно наша натура устроена! Поймал себя на том, что мстить хочу с помощью пятнадцати копеек, стало стыдно, выгреб все, что в кармане было, высыпал на столик.
— На, — говорю, — милая моя пони, и не поминай лихом!
— Эй, — заорала она, — следующий!
Вернулся домой. Да, теперь всякую литературу следует из башки выкинуть. Надо купить молочка, сырков творожных и садиться спецбумажки читать: МППСС, уставчик листануть, отчетики о последних рейсах, дневнички. Я ведь с ноября прошлого года в морях не был. Поздно в Арктику отходим. Очень даже поздно, если честно говорить. Да и точной, определенной ротации судна выяснить пока не удалось. Вроде бы только на Хатангу, то есть Мурманск — Хатанга — Игарка — Мурманск. Но краем уха в службе мореплавания слышал, что, возможно, и на Тикси. Ну, вообще-то мне один черт. Даже и наоборот — чем дальше на восток, тем мне и лучше — хоть до Певека. Я в хорошей форме, собран, береговые дела закругляю. Одно есть «но». Осенью в Париж лететь. Второй раз за жизнь родина отправляет в капстрану в командировку по приглашению МИДа Франции. И то смысла поездки, правда, не знаю. Ну, с Парижем попрощаюсь, маленький праздничек на склоне лет. Если б не началась перестройка и инфляция всей страны, то фиг бы мне такой фортель выпал. А нынче оформление уже прошел, и в органах ко мне с наибольшим благоприятствованием, и даже четырехтомник в «Худлите» стоит в планах железно. Красивая жизнь! Но почему такая тоска в душе, почему жить не хочется?
Ладно. Упремся — разберемся, как Василий Васильевич говорит. Хорошо, что я его перед рейсом встретил и что Фому Фомича повидал.
Молочный магазинчик рядом — угол Лахтинской и Чкаловского. Набит старушенциями и мамашами с детишками под самую завязку. Так, у кассирши поломался кассовый аппарат. Этакая машина величиной с брашпиль на сейнере. Очередь уже человек сорок.
Стоим.
Молчим.
Рабское, покорное молчание. И все люди в очереди почему-то напоминают вчерашнюю кошку, которая на молу в Стрельне об мои ноги терлась.
Четыре продавщицы томятся за безлюдными прилавками: чего им без чеков делать? То одна, то другая не выдерживают, берут нож от масла — длинные, узкие ножи — и лезут в будку к кассирше, тыкают в испортившийся брашпиль ножами, помогают коллеге.
Аппарат урчит, рявкает, чего-то в нем крутится, иногда выплевывает метр бумажной ленты, но чеки не пробивает.