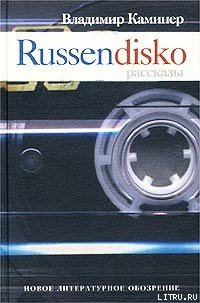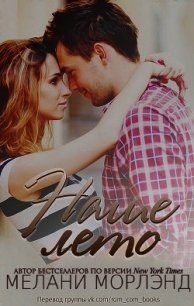Дар - Набоков Владимир Владимирович (полная версия книги TXT) 📗
Между тем, воздух стихов потеплел, и мы собираемся назад в деревню, куда до моего поступления в школу (а поступил я только двенадцати лет) мы переезжали иногда уже в апреле.
Это любимое стихотворение самого автора, но он не включил его в сборник, потому, опять же, что тема связана с темой отца, а экономия творчества советовала не трогать ее до поры до времени. Вместо нее воспроизведены такие весенние впечатления, как первое чувство сразу по выходе со станции: мягкость земли, ее близость к ступне, а вокруг головы – ничем не стесненное течение воздуха. Наперебой, яростно расточая приглашения, вставая с козел, взмахивая свободной рукой, мешая галдеж с нарочитым тпруканием, извозчики зазывали ранних дачников. Поодаль нас ожидал открытый автомобиль, пунцовый снутри и снаружи: идея скорости уже дала наклон его рулю (меня поймут приморские деревья), однако общая его внешность еще хранила, – из ложного приличия, что ли, – подобострастную связь с формой коляски, но если это и была попытка мимикрии, то она совершенно уничтожалась грохотанием мотора при открытом глушителе, столь зверским, что задолго до нашего появления мужик на встречной телеге спрыгивал с нее и поворачивал лошадь – после чего, бывало, вся компания немедленно оказывается в канаве, а то и в поле – где, через минуту, уже забыв нас и нашу пыль, опять собирается свежая нежная тишина с мельчайшим отверстием для пения жаворонка.
Быть может, когда-нибудь, на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением, несмотря на идиотскую вещественность изоляторов, я еще выйду с той станции и, без видимых спутников, пешком пройду стежкой вдоль шоссе с десяток верст до Лешина. Один за другим, телеграфные столбы будут гудеть при моем приближении. На валун сядет ворона, – сядет, оправит сложившееся не так крыло. Погода будет вероятно серенькая. Изменения в облике окрестности, которые я не могу представить себе, и старейшие приметы, которые я почему-то забыл, будут встречать меня попеременно, даже смешиваясь иногда. Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стона, в тон столбам. Когда дойду до тех мест, где я вырос, и увижу то-то и то-то – или же, вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы, не увижу ни того, ни этого (но все-таки кое-что, бесконечно и непоколебимо верное мне, разгляжу – хотя бы потому, что глаза у меня все-таки сделаны из того же, что тамошняя серость, светлость, сырость), то, после всех волнений, я испытаю какую-то удовлетворенность страдания – на перевале, быть может, к счастью, о котором мне знать рано (только и знаю, что оно будет с пером в руке). Но одного я наверняка не застану – того, из-за чего, в сущности, стоило городить огород изгнания: детства моего и плодов моего детства. Его плоды – вот они, – сегодня, здесь, – уже созревшие; оно же само ушло в даль, почище северно-русской.
Автор нашел верные слова для изображения ощущения при переходе в деревенскую обстановку. Как весело говорит он, что:
К этому в десять лет прибавилось новое развлечение. Он еще в городе въехал ко мне, и сначала я его долго водил за рога из комнаты в комнату, и с какой застенчивой грацией он шел по паркету, пока не накололся на кнопку! По сравнению с трехколесным, детским, дребезжащим и жалким, который по узости ободков увязал даже в песке садовой площадки, новый обладал божественной легкостью передвижения. Это поэт хорошо выразил в следующих стихах:
А послезавтра неизбежно начинает развиваться мечта о «свободной передаче», – сочетание слов, которое, я до сих пор слышать не могу без того, чтоб не замелькала под едва уловимый резиновый шелест и легчайшее лепетание спиц, полоса полого бегущей, гладкой, липкой земли.
Катанье на велосипеде и на лодке, верховая езда, игра в лоун-теннис и в городки, «крокет, купанье, пикники», заманчивость мельницы и сенника, – этим в общих чертах исчерпываются темы, волнующие нашего автора. Что же можно сказать о формальной стороне его стихотворений? Это, конечно, миниатюры, но сделанные с тем феноменально тонким мастерством, при котором отчетлив каждый волосок, не потому что все выписано чересчур разборчивой кистью, а потому что присутствие мельчайших черт невольно читателю внушено порядочностью и надежностью таланта, ручающегося за соблюдение автором всех пунктов художественного договора. Можно спорить о том, стоит ли вообще оживлять альбомные формы, и есть ли еще кровь в жилах нашего славного четырехстопника (которому уже Пушкин, сам пустивший его гулять, грозил в окно, крича, что школьникам отдаст его в забаву), но никак нельзя отрицать, что в пределах, себе поставленных, свою стихотворную задачу Годунов-Чердынцев правильно разрешил. Чопорность его мужских рифм превосходно оттеняет вольные наряды женских; его ямб, пользуясь всеми тонкостями ритмического отступничества, ни в чем однако не изменяет себе. Каждый его стих переливается арлекином. Кому нравится в поэзии архиживописный жанр, тот полюбит эту книжечку. Слепому на паперти она ничего не может сказать. У, какое у автора зрение! Проснувшись спозаранку, он уже знает, каков будет день по щели в ставне, которая
и тем же прищуренным глазом он смотрит вечером на поле, одна сторона которого уже забрана тенью, между тем, как другая, дальняя
Нам даже думается, что может быть именно живопись, а не литература с детства обещалась ему, и, ничего не зная о теперешнем облике автора, мы зато ясно воображаем мальчика в соломенной шляпе, необыкновенно неудобно расположившегося на садовой скамейке со своими акварельными принадлежностями и пишущего мир, завещанный ему предками.