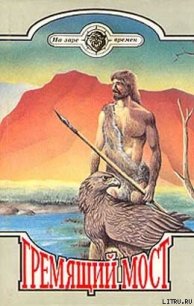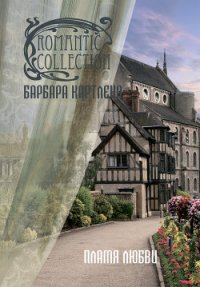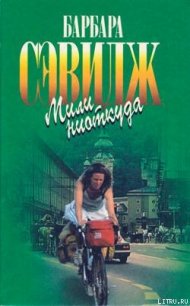Донья Барбара - Гальегос Ромуло (читать книги регистрация TXT) 📗
Она ушла в комнаты, оставив пеонам благодатный повод для пересудов в часы бдения около убитого Мелькиадеса.
– Если это сделал Бальбино, то бьюсь об заклад, деревья в том месте толстые и было где спрятаться, ведь лицом к лицу Бальбино не совладал бы с Колдуном.
– Посмотрим, как он сейчас спрячется!
Пеоны надолго умолкли, ожидая, что будет дальше, и прислушиваясь к далеким звукам.
Наконец в стороне Ла Матики раздались выстрелы.
– Винчестеры заговорили, – сказал один.
– А вот револьвер отвечает, – добавил другой. – Может, поехать, помочь ребятам?
Несколько человек уже собрались отправиться в Ла Матику, но снова появилась донья Барбара:
– Не надо. С Бальбино покончено.
Вакеро взглянули друг на друга с суеверным страхом, который внушало им «двойное видение» этой женщины. И хотя один из пеонов после того, как донья Барбара ушла в дом, намекнул: «Револьвер умолк раньше, заметили? Последние выстрелы были из винчестеров», – ничто уже не могло поколебать уверенности слуг ведьмы Арауки в том, что она «видела» происходившее в Ла Матике.
XI. Свет в лабиринте
Была полночь, и уже целый час они ехали молча, когда показалась пальмовая роща Ла Чусмита, и Пахароте заметил:
– Свет в доме дона Лоренсо так поздно? Там что-то случилось.
Сантос, понуро молчавший от самого Эль Миедо, далекий от всего, что его окружало, поднял голову, словно проснувшись.
С того вечера, как Антонио Сандоваль сообщил ему о переселении Мариселы в ранчо, прошло три дня, и за все это время он, переживая необоримую и злую тягу к насилию, затем кризис и теперь обессиленный, молчаливый и мрачный, ни разу не подумал о том, каким лишениям и опасностям, возможно, подвергается сейчас эта девушка, бывшая в течение нескольких месяцев его основной заботой.
Он осознал, что поступил дурно, бросив ее на произвол судьбы, и, с радостью отметив, что его сердце вновь наполняется добрым чувством, свернул на дорогу, ведущую к пальмовой роще.
Спустя несколько минут он уже стоял на пороге ранчо и при свете догорающего светильника наблюдал горестную картину: в гамаке, с исказившимся, отмеченным печатью смерти лицом неподвижно лежал Лоренсо Баркеро, а Марисела, сидя на полу рядом с ним, гладила лоб отца, устремив на него своп прекрасные глаза – родники тихих слез, струившихся по ее лицу.
Ее нежная любовь облегчила отцу последние минуты, и хотя его лоб уже перестал чувствовать мягкое прикосновение ее руки, она все еще продолжала дарить ему дочернюю ласку.
Не столько драматизм этой сцены – угасшая, полная мучений жизнь, окружающая нищета и слезы на опечаленном лице – тронул сердце Лусардо. сколько то, что было в ней от женской нежности: ласкающая рука, выражение любви в затуманенных горем глазах и мягкость, на которую он считал Мариселу неспособной.
– У меня умер папа! – вскричала она в отчаянии, увиден Сантоса, и, закрыв лицо руками, упала навзничь.
Убедившись, что Лоренсо мертв, Сантос поднял Мариселу, чтобы усадить ее, но она, рыдая, бросилась к нему на грудь.
Они долго стояли так, молча; наконец Марисела, чувствуя, что должна излить горе в словах, принялась рассказывать:
– Я собиралась завтра везти его в Сан-Фернандо, показать врачам. Я думала, что его можно вылечить, и сказала об этом Антонио, – он был здесь сегодня вечером, – он обещал нанять для пас барку. Только Антонио уехал, я вошла сюда, – думаю, прежде чем приготовить ему поесть, дай взгляну, как он… потому что сегодня с утра он так осунулся, и я боялась надолго оставлять его одного, – и вдруг он с трудом приподнялся в гамаке и стал смотреть на меня безумными глазами и закричал: «Трясина! Меня засасывает… Поддержи, не дай утонуть!» Это был такой страшный крик, что я до сих пор слышу его. Потом он опять упал в гамак и, задыхаясь, повторял: «Тону! Тону! Тону!» И с ужасной тоской сжимал мне руку.
– Он был помешан на мысли, что его поглотит трясина, – пояснил Пахароте.
Сантос молчал, горячо упрекая себя за то, что оставил Лоренсо и Мариселу, а она продолжала сбивчиво рассказывать:
– Я собиралась завтра же повезти его в Сан-Фернандо. Антонио обещал достать место на барке, которая идет туда…
Но Сантос прервал ее, по-отечески притянув к себе:
– Довольно. Не говори больше.
– Но ведь я всю ночь мучилась молча. Одна-одинешенька, всю ночь смотрела, как он тонет, и тонет, и тонет. Он как будто и в самом деле погружался в трясину. Боже мой! Какой это ужас – смерть. А я пытаюсь скрасить его последние минуты. И теперь – совсем одна, на всю жизнь. Что мне делать, боже мой!
– Теперь мы вернемся в Альтамиру, а там видно будет. Ты не так одинока, как думаешь. Ступай, Пахароте. Найди людей и приведи лошадь для Мариселы. А ты ляг, отдохни немного и постарайся уснуть.
Но Марисела не захотела отойти от отца и опустилась в то самое кресло, где сидел Лоренсо в день первого визита Сантоса в ранчо, Сантос устроился на прежнем месте – на стуле, и так, разделенные гамаком с лежащим в нем телом Лоренсо, они долго молчали.
Снаружи, над пальмовой рощей, тихой и недвижной в ночном безмолвии, светила луна, отражавшаяся в гладкой воде. Глубоким и светлым был покой лунного пейзажа, но сердца обоих терзало горе, и им он казался мрачным и тягостным.
Марисела всхлипывала по временам; Сантос, хмурый и печальный, мучительно думал, повторяя про себя слова, сказанные Лоренсо в день их первой встречи: «Ты тоже, Сантос Лусардо? Ты тоже слышишь зов?»
Лоренсо погиб, пал жертвой погубительницы мужчин, представлявшейся не столько в образе доньи Барбары, сколько в образе этой жестокой, дикой земли с ее отупляющей заброшенностью, этой трясины, засосавшей человека, бывшего гордостью семьи Баркеро. Теперь и он, Сантос Лусардо, тоже начал погружаться в болото варварства, а оно не прощает тому, кто хоть раз прибегнул к его силе. Вот и он стал жертвой погубительницы людей. С Лоренсо покончено, пришла его очередь.
«Сантос Лусардо! Взгляни на меня: эта земля не щадит».
Он вглядывался в искаженное, покрытое землистым налетом лицо, мысленно ставя себя на место Лоренсо.
«Скоро и я начну пить, чтобы забыться, а потом буду лежать вот так, с отпечатком отвратительной смерти на лице».
Он так вошел в роль Лоренсо Баркеро, что удивился, когда Марисела обратилась к нему, как к живому:
– Мне говорили, что все эти дни ты был каким-то странным, делал то, что совсем не похоже на тебя…
– Ты не все знаешь. Сегодня я убил человека.
– Ты?… Нет! Не может быть!
– Что ж тут странного? Все Лусардо были убийцами.
– Это невозможно, – возразила Марисела. – Расскажи мне, расскажи.
И когда Лусардо описал ей сцену схватки с Колдуном, не замечая из-за душевного потрясения, что неправильно толкует факты, она повторила:
– Вот видишь, я права: это невозможно. Если все было, как ты говоришь, то, выходит, Колдуна убил Пахароте. Ты сказал, что Колдун находился против тебя, справа, но рана-то на левом виске! Значит, только Пахароте мог ранить его с этой стороны.
Многих часов, в течение которых картина происшествия неотступно стояла перед его мысленным взором, а он упорно старался воспроизвести все ее детали, оказалось для Сантоса недостаточно, чтобы понять то, в чем Марисела разобралась в один миг, и теперь он смотрел на нее, боясь поверить обнадеживающему открытию, как заблудившийся в темном лабиринте смотрит на приближающийся спасительный свет.
Это был свет, зажженный им самим в душе Мариселы, ясность интуиции в сочетании с привитым ей умением разумно смотреть на вещи, искра доброты, помогшая рассудку донести слово утешения до истерзанной души. Ведь именно в этом заключался истинный смысл его жизни: не искоренять зло огнем и мечом, а находить здесь и там сокровенные источники доброты на своей земле и в своих соотечественниках. В минуту отчаяния он забыл об этих высоких моральных обязанностях, но сейчас сделанное им добро возвращалось сторицей и помогло ему вновь обрести чувство уважения к себе. И это происходило не столько потому, что он узнал о своей невиновности в смерти Колдуна, сколько потому, что целебная убедительность слов Мариселы вытекала из ее доверия к нему, а это доверие было частицей его самого, тем лучшим, что жило в нем и что было вложено им в другое сердце.