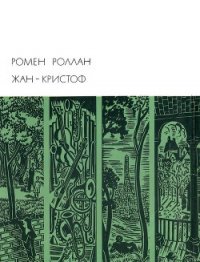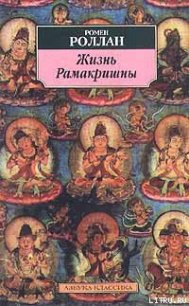Жан-Кристоф. Том I - Роллан Ромен (читать книги без регистрации полные TXT) 📗
Кристоф слушал, не перебивая, но враждебное чувство к проповеднику росло в его душе. Он понимал, как лицемерен Леонгард в этом призыве к отречению. Но у него хватило справедливости признать, что не все верующие — Леонгарды. Он отлично знал, что у ничтожной кучки людей это отречение от живой жизни не что иное, как просто неспособность жить, острое отчаяние, желание умереть… и что у единиц — это страстный экстаз (но сколько времени длится этот экстаз? Вот в чем вопрос). В большинстве же случаев подобный отказ от жизни — результат холодного умозаключения человека, которому дороже свое собственное спокойствие, чем счастье людей или истина. И если чистые сердцем сознают это, как же должны они страдать при мысли, что так грубо попирается их идеал!..
А Леонгард, весь сияя от счастья, разглагольствовал теперь о красоте и гармонии мира, открывающегося с его небесной колокольни. Здесь, в сей юдоли, все — мрак, все — несправедливость, все — страдание, оттуда все предстает светом, ясностью, порядком; мир в его изображении становился подозрительно похож на аккуратно выверенный часовой механизм…
Теперь Кристоф слушал рассеянно. Он думал: «Верит ли Леонгард на самом деле или только верит, что верит?» Однако собственная его вера, его страстная жажда веры не поколебалась. Не дурачку вроде Леонгарда с его жалкими и пошлыми аргументами дано было смутить такого человека, как Кристоф.
Над городом спускалась ночь. Галерею, где они сидели, окутал мрак; зажглись звезды; от реки тянулся белый туман; на кладбище под деревьями трещали сверчки. Послышался благовест: прозвучал удар колокола — его пронзительная жалоба, как птичий крик, о чем-то вопросила небеса; потом прозвучал другой, на терцию ниже, и присоединился к жалобе; и, наконец, рокочущей квинтой ответил последний колокол. Три голоса слились в один. Отсюда, снизу, казалось, что там, на колокольне, вдруг загудел огромный пчелиный рой. Воздух и сердце затрепетали. Удерживая дыхание, Кристоф думал, как бедна наша музыка по сравнению с этим океаном музыки, где сливаются голоса мириадов существ: здесь — целый мир дикой природы, ничем не скованный мир звуков, а там — прирученная, зажатая в рамки, холодно перенумерованная человеческим разумом музыка. И он растворился Весь в этой звучащей громаде без берегов и границ…
Когда могучее бормотание стихло, когда последние его отзвуки угасли в небе, Кристоф очнулся. Он испуганно огляделся… И не узнал знакомых мест. Все изменилось вокруг него, в нем самом. Бога больше не было.
Часто вера и благодать осеняют человека вдруг, и так же часто, во внезапном прозрении, человек теряет веру. Разум тут ни при чем, а решает все сущий пустяк — слово, молчание, удар колокола. Человек спокойно гуляет, мечтает, не подозревая ни о чем. И вдруг все рушится разом. Кругом тебя одни развалины. Ты один. И ты не веришь более.
Испуганный Кристоф не мог понять, почему и как произошел в нем этот перелом. Так вдруг начинается весной ледоход…
А голосок Леонгарда по-прежнему звучал рассудительно, однообразно, как трескотня кузнечиков. Кристоф уже не слушал его. Совсем стемнело. Леонгард замолчал. Взглянув на неподвижную фигуру Кристофа, он удивился и, обеспокоенный тем, что они опоздают домой, предложил вернуться. Кристоф не ответил. Леонгард взял его за руку. Кристоф задрожал всем телом и испуганно посмотрел на него.
— Кристоф, нам пора домой, — начал было Леонгард.
— Да иди ты к черту! — яростно прокричал Кристоф.
— Боже мой! Кристоф, чем же я вас обидел? — боязливо и недоуменно спросил Леонгард.
Кристоф спохватился.
— Прости меня, дружок, — сказал он более мягким тоном. — Я сам не знаю, что говорю. Иди с богом! Иди с богом!
Он остался один. Сердце его сжималось от тоски.
— Ах, боже мой! Боже мой! — воскликнул он, судорожно сжав руки, запрокинув голову и со страстной надеждой глядя в черное небо. — Почему я не верю больше? Почему я не могу больше верить? Что произошло во мне?
Слишком уж большое несоответствие было между полным крушением его веры и разговором, который произошел у него только что с Леонгардом; значит, не в разговоре тут было дело, так же как и не в Амалии с ее вечными криками, и не в странностях семейства Эйлер, — не это стало причиной тех нравственных потрясений, которые происходили в нем. Все это было лишь предлогом. Источник потрясения был не вне его, а в нем самом. Кристоф чувствовал, как со дна его души подымаются неведомые чудища, и не имел мужества заглянуть в глубь своих собственных мыслей и в упор рассмотреть свой недуг… Недуг? Полно, разве это недуг? Это томление и пьянящая, сладостная тоска. Кристоф не принадлежал более самому себе. Тщетно пытался он замкнуться, застыть в своем стоицизме, который был так силен еще вчера. Все рухнуло разом. Он вдруг почувствовал, как огромен мир — пылающий, дикий, ни с чем не соизмеримый мир… и как узки для него рамки религии!..
Это был лишь краткий миг. Однако и его оказалось достаточно, чтобы нарушить равновесие прежней жизни Кристофа.
Из всей семьи старика Эйлера Кристоф меньше всего обращал или, вернее, вовсе не обращал внимания на Розу. Девушка не отличалась красотой, а Кристоф, сам не будучи красавцем, предъявлял весьма строгие требования к чужой внешности. В нем говорила хладнокровная жестокость юности, для которой некрасивая женщина вообще не существует — разве что она уже вышла из того возраста, когда внушают нежные чувства, и к ней относишься спокойно, уважительно, почти благоговейно. Роза была неглупая, ничем не примечательная девушка, но ее болезненная болтливость обращала Кристофа в бегство. Потому он и не дал себе труда изучить ее, решив заранее, что изучать тут нечего. Он ее просто не видел.
Однако Роза была достойнее многих своих сверстниц, во всяком случае, куда достойнее обожаемой Минны: не кокетка, она ничего о себе не воображала и до встречи с Кристофом даже не замечала своей некрасивости или, во всяком случае, мало тревожилась по этому поводу, потому что все домашние тоже не тревожились. Если иногда под сердитую руку дедушка или мать обзывали ее дурнушкой, она от души хохотала и не придавала этому никакого значения, да и они тоже. Сколько дурнушек — порой даже совсем безобразных — находят человека, который любит их всей душой! Немцы вообще обладают счастливой снисходительностью к физическим несовершенствам: они умеют не видеть их, более того, умеют приукрашать их силою услужливого воображения, которое вдруг находит самое неожиданное сходство между понравившимся лицом и наиболее признанными образцами человеческой красоты.
Дедушка Эйлер, например, мог вполне серьезно заявить, что нос у его внучки, точь-в-точь как у Юноны, и ему не пришлось бы долго в этом себя убеждать. К счастью, старый ворчун не склонен был делать комплименты кому бы то ни было, и Роза, забывая о несовершенстве своего носа, все девичье самолюбие вкладывала в пресловутые домашние хлопоты, неукоснительно следуя семейным обычаям. Как божественному гласу, внимала она всем поучениям домашних. Редко встречаясь с чужими людьми, она не имела достаточно поводов для сравнений и наивно восхищалась родными, свято веря каждому их слову. Экспансивная, доверчивая, умевшая довольствоваться малым. Роза старалась ни в чем не нарушать царившего в доме унылого тона и покорно повторяла пессимистические рассуждения родителей. А сердечко у нее было на редкость преданное: Роза думала только о других, старалась угодить каждому, разделить с каждым его горе, угадывала чужие желания — так велика была в ней потребность любить, не помышляя о взаимности. Естественно, что близкие злоупотребляли этой склонностью, хотя вообще люди они были добрые и, безусловно, любили Розу, — все мы склонны злоупотреблять любовью того, кто всецело отдает нам себя. Все Эйлеры были так уверены в неизменной услужливости Розы, что не испытывали к ней особенной благодарности, — чем больше Роза делала для других, тем больше от нее ждали. К тому же она не отличалась ловкостью, движения ее были неуклюжие, быстрые, ухватки резкие, почти мальчишеские, а бурные изъявления нежности обычно вели к катастрофам. То разбивался стакан, то падал графин, то слишком громко хлопала дверь, и каждая оплошность со стороны Розы вызывала негодование домашних. Огорченная грубым окриком, девочка забивалась куда-нибудь в уголок и горько плакала. Но слезы быстро высыхали на ее глазах, спустя минуту она снова весело смеялась и болтала с обидчиком, не помня зла.