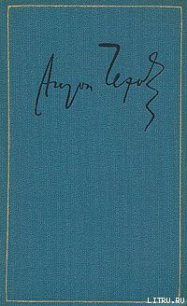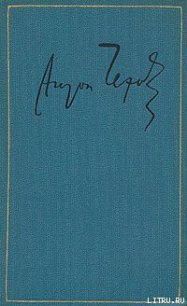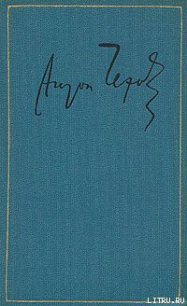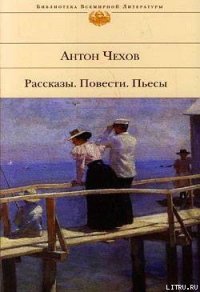Рассказы. Повести. 1892-1894 - Чехов Антон Павлович (читать бесплатно полные книги txt) 📗
Она представила себе снег у крыльца, сани, темное небо, толпу в церкви и запах можжевельника, и ей стало жутко, но она все-таки решила, что тотчас же встанет и поедет к ранней обедне. И пока она грелась в постели и боролась со сном, который, как нарочно, бывает удивительно сладок, когда не велят спать, и пока ей мерещился то громадный сад на горе, то гущинский дом, ее все время беспокоила мысль, что ей надо сию минуту вставать и ехать в церковь.
Но когда она встала, было уже совсем светло, и часы показывали половину десятого. За ночь навалило много нового снегу, деревья оделись в белое, и воздух был необыкновенно светел, прозрачен и нежен, так что когда Анна Акимовна поглядела в окно, то ей, прежде всего, захотелось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остаток давнего детского чувства, – радость, что сегодня Рождество, вдруг шевельнулась в ее груди, и после этого стало легко, свободно и чисто на душе, как будто и душа умылась или окунулась в белый снег. Вошла Маша, разряженная и крепко затянутая в корсет, и поздравила с праздником; потом она долго причесывала и помогала надевать платье. Запах и ощущение нового, пышного, прекрасного платья, его легкий шум и запах свежих духов возбуждали Анну Акимовну.
– Вот и святки, – сказала она весело Маше. – Теперь будем гадать.
– Мне летошний год вышло – за стариком быть. Три раза так выходило.
– Ну, бог милостив.
– А что ж, Анна Акимовна? Я так думаю, чем ни то ни се, ни два ни полтора, так уж лучше за старика, – сказала печально Маша и вздохнула. – Мне уж двадцать первый год пошел, не шутка.
Всем в доме было известно, что рыжая Маша была влюблена в лакея Мишеньку, и вот уже три года, как продолжалась эта глубокая, страстная, но безнадежная любовь.
– Ну, полно пустяки говорить, – утешила Анна Акимовна. – Мне скоро тридцать лет, а я всё собираюсь за молодого.
Пока хозяйка одевалась, Мишенька, в новом фраке и в лакированных ботинках, ходил по зале и гостиной и ждал, когда она выйдет, чтобы поздравить ее с праздником. Он ходил всегда как-то особенно, мягко и нежно ступая; глядя при этом на его ноги, руки и наклон головы, можно было подумать, что он это не просто ходит, а учится танцевать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкие бархатные усики и красивую, несколько даже шулерскую наружность, он был степенен, рассудителен и набожен, как старик. Молился он богу всегда с земными поклонами и любил кадить у себя в комнате ладаном. Богатых и знатных он уважал и благоговел пред ними, бедняков же и всякого рода просителей презирал всею силою своей лакейски-чистоплотной души. Под крахмальною сорочкой у него была еще фланелевая, которую он носил зимою и летом, крепко дорожа своим здоровьем; уши были заткнуты ватой.
Когда через залу проходила Анна Акимовна с Машей, он склонил голову вниз и несколько набок и сказал своим приятным, медовым голосом:
– Честь имею поздравить вас, Анна Акимовна, с высокоторжественным праздником Рождества Христова.
Анна Акимовна дала ему пять рублей, а бедная Маша обомлела. Его праздничный вид, поза, голос и то, что он сказал, поразили ее своею красотой и изяществом; продолжая идти за своею барышней, она уже ни о чем не думала, ничего не видела и только улыбалась то блаженно, то горько.
Верхний этаж в доме назывался чистой, или благородной половиной и хоромами, нижнему же, где хозяйничала тетушка Татьяна Ивановна, было присвоено название торговой, стариковской, или просто бабьей половины. В первой принимали обыкновенно благородных и образованных, а во второй – кого попроще и личных знакомых тетушки. Красивая, полная, здоровая, еще молодая и свежая, чувствуя на себе роскошное платье, от которого, казалось ей, во все стороны шло сияние, Анна Акимовна спустилась в нижний этаж. Тут ее встретили упреками, что она, образованная, бога забыла, проспала обедню и не приходила вниз разговляться, и все всплескивали руками и искренно говорили, что она красивая, необыкновенная, и она верила этому, смеялась, целовалась и совала кому рубль, кому три или пять, смотря по человеку. Ей нравилось внизу. Куда ни взглянешь – киоты, образа, лампады, портреты духовных особ, пахнет монахами, в кухне стучат ножами, и уже понесся по всем комнатам запах чего-то скоромного, очень вкусного. Желтые крашеные полы сияют, и от дверей к передним углам идут дорожками узкие ковры с ярко-синими полосами, а солнце так и режет в окна.
В столовой сидят какие-то чужие старушки; в комнате Варварушки тоже старушки и с ними глухонемая девица, которая все стыдится чего-то и говорит: «блы, блы…» Две тощенькие девочки, взятые из приюта на праздники, подошли к Анне Акимовне, чтобы поцеловать ручку, и остановились перед ней, пораженные роскошью ее платья; она заметила, что одна из девочек косенькая, и среди легкого праздничного настроения у нее вдруг болезненно сжалось сердце от мысли, что этою девочкой будут пренебрегать женихи и она никогда не выйдет замуж. В комнате у кухарки Агафьюшки за самоваром сидело человек пять громадных мужиков в новых рубахах, но это были не рабочие с завода, а кухонная родня. Увидев Анну Акимовну, мужики вскочили с мест и из приличия перестали жевать, хотя у всех были полные рты; в комнату вошел из кухни повар Степан, в белом колпаке и с ножом в руке, и поздравил; пришли дворники в валенках и тоже поздравили. Выглянул водовоз с сосульками на бороде, но не посмел войти.
Анна Акимовна ходила по комнатам, а за нею весь штат: тетушка, Варварушка, Никандровна, швейка Марфа Петровна, нижняя Маша. Варварушка, худая, тонкая, высокая, выше всех в доме, одетая во все черное, пахнущая кипарисом и кофеем, в каждой комнате крестилась на образа и кланялась в пояс, и при взгляде на нее почему-то всякий раз приходило на память, что она уже приготовила себе к смертному часу саван и что в том же сундуке, где лежит этот саван, спрятаны также ее выигрышные билеты.
– Ты, Анютинька, будь милостива ради праздника, – сказала она, отворяя дверь в кухню. – Прости его, уж бог с ним! Ну их!
Среди кухни на коленях стоял кучер Пантелей, уволенный за пьянство еще в ноябре. Это был добрый человек, но во хмелю он бывал буен и никак не мог уснуть, а всё ходил в корпуса и кричал там угрожающим тоном: «Мне все известно!» Теперь по его брыластому, опухшему лицу и по глазам, налитым кровью, видно было, что с ноября до праздника он пил не переставая.
– Простите, Анна Акимовна! – проговорил он хриплым голосом, стукнув лбом о пол и показывая свой бычий затылок.
– Тебя тетушка уволила, у нее и проси.
– Что тетушка? – говорила тетушка, входя в кухню и тяжело дыша; она была очень толста, и на ее груди могли бы поместиться самовар и поднос с чашками. – Что там еще тетушка? Ты тут хозяйка, ты и распоряжайся, а по мне их, подлецов, хоть бы вовсе не было. Ну, вставай, боров! – крикнула она на Пантелея, не вытерпев. – Пошел с глаз! Последний раз тебя прощаю, а случится опять грех – не проси милости!
Затем пошли в столовую пить кофе. Но едва сели за стол, как опрометью вбежала нижняя Маша и проговорила с ужасом: «Певчие!» – и побежала назад. Послышались сморканье, низкий басовый кашель и шум шагов, похожий на то, как будто в переднюю около залы вводили подкованных лошадей. На полминуты все затихло… Певчие вскрикнули внезапно и так громко, что все вздрогнули. Пока они пели, приехал богаделенский батюшка, а с ним дьякон и дьячок. Надевая епитрахиль, батюшка медленно рассказал, что ночью, когда звонили к утрене, шел снег и было не холодно, а к утру мороз стал крепчать, бог с ним, и теперь, должно быть, градусов двадцать.
– Многие однако утверждают, что зима для человека здоровее, чем лето, – сказал дьякон, но тотчас же придал своему лицу суровое выражение и запел вслед за священником: «Рождество твое, Христе боже наш…» [67]
Вскоре приехал батюшка из чернорабочей больницы с дьячком, потом сестры из общины, дети из приюта, и пение слышалось почти непрерывно. Пели, закусывали и уходили.
67
«Рождество твое, Христе боже наш…» – Тропарь на праздник Рождества Христова.