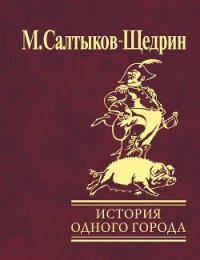Господа Головлевы - Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (читаем книги .txt) 📗
– А будешь довольна, так и слава Богу! В Погорелку-то поедешь, что ли?
– Нет, дядя, я покамест у вас поживу. Ведь вы ничего не имеете против этого?
– Христос с тобой! живи! Ежели я и спросил про Погорелку, так потому, что на случай поездки распоряжение нужно сделать: кибиточку, лошадушек…
– Нет! после! после!
– И прекрасно. Когда-нибудь после съездишь, а покудова с нами поживи. По хозяйству поможешь – я ведь один! Краля-то эта, – Иудушка почти с ненавистью указал на Евпраксеюшку, разливавшую чай, – все по людским рыскает, так иной раз и не докличешься никого, весь дом пустой! Ну а покамест прощай. Я к себе пойду. И помолюсь, и делом займусь, и опять помолюсь… так-то, друг! Давно ли Любинька-то скончалась?
– Да с месяц, дядя.
– Так мы завтра ранехонько к обеденке сходим, да кстати и панихидку по новопреставльшейся рабе Божией Любви отслужим… Так прощай покуда! Кушай-ка чай-то, а ежели закусочки захочется с дорожки, и закусочки подать вели. А в обед опять увидимся. Поговорим, побеседуем; коли нужно что – распорядимся, а не нужно – и так посидим!
Так произошло это первое родственное свидание. С окончанием его Аннинька вступила в новую жизнь в том самом постылом Головлеве, из которого она, уж дважды в течение своей недолгой жизни, не знала как вырваться.
Аннинька пошла под гору очень быстро. Вызванное головлевской поездкой (после смерти бабушки Арины Петровны) сознание, что она «барышня», что у нее есть свое гнездо и свои могилы, что не все в ее жизни исчерпывается вонью и гвалтом гостиниц и постоялых дворов, что есть, наконец, убежище, в котором ее не настигнут подлые дыханья, зараженные запахом вина и конюшни, куда не ворвется тот «усатый», с охрипшим от перепоя голосом и воспаленными глазами (ах, что он ей говорил! какие жесты в ее присутствии делал!), – это сознание улетучилось почти сейчас вслед за тем, как только пропало из вида Головлево.
Аннинька отправилась в ту пору из Головлева прямо в Москву и начала хлопотать, чтоб ее и сестру приняли на казенную сцену. С этой целью она обращалась и к maman, директрисе института, в котором она воспитывалась, и к некоторым институтским товаркам. Но везде ее приняли как-то странно. Maman, отнесшаяся к ней в первую минуту довольно радушно, как только узнала, что она играет на провинциальном театре, вдруг переменила благосклонное выражение лица на важное и строгое, а товарки, большею частью замужние женщины, взглянули на нее с таким нахальным изумлением, что она просто-напросто струсила. Только одна, более добродушная, нежели другие, желая показать участие, спросила:
– А скажи, душка, правда ли, что когда вы, актрисы, одеваетесь в уборных, то вам стягивают корсеты офицеры?
Одним словом, ее попытки утвердиться в Москве так и остались попытками. Надо, впрочем, сказать правду, что и настоящих задатков она для успеха на столичной сцене не имела. И она и Любинька принадлежали к числу тех бойких, но не особенно даровитых актрис, которые всю жизнь играют одну и ту же роль. Анниньке удалась «Перикола», Любиньке – «Анютины глазки» и «Полковник старых времен». И затем, за что бы они ни принимались, – везде выходили «Периколы» и «Анютины глазки», а в большинстве случаев, пожалуй, и совсем ничего не выходило. Приходилось Анниньке играть и «Прекрасную Елену» (по обязанностям службы даже и часто); она накладывала на свои пепельные волосы совершенно огненный парик, делала в тунике разрез до самого пояса, но и за всем тем выходило посредственно, вяло, даже не цинично. От «Елены» она перешла к «Отрывкам из герцогини Герольштейнской», и так как тут к бесцветной игре прибавилась еще совершенно бессмысленная постановка, то вышло уже что-то совсем глупое. Наконец, взялась играть Клеретту в «Дочери Рынка», но здесь, стараясь наэлектризовать публику, до такой степени переиграла, что и неприхотливым провинциальным зрителям показалось, что по сцене мечется даже не актриса, желающая «угодить», а просто какая-то непристойная лохань. Вообще об Анниньке составилась репутация, что она актриса проворная, обладающая недурным голосом, а так как при этом у нее была красивая внешность, то в провинции она могла, пожалуй, делать сборы. Но и только. Заставить говорить об себе она не могла и никакой определенной физиономии не имела. Даже в среде провинциальной публики ее партию составляли исключительно служители всех родов оружия, главная претензия которых заключалась в том, чтобы иметь свободный вход за кулисы. В столице же она была мыслима не иначе, как навязанная очень сильным покровительством, но и за всем тем от публики она, наверное, заслужила бы только незавидное прозвище «арфистки».
Приходилось возвращаться в провинцию. В Москве Аннинька получила от Любиньки письмо, из которого узнала, что их труппа перекочевала из Кречетова в губернский город Самоваров, чему она, Любинька, очень рада, потому что подружилась с одним самоваровским земским деятелем, который до того увлекся ею, что «готов, кажется, земские деньги украсть», лишь бы выполнить все, что она ни пожелает. И действительно, приехавши в Самоваров, Аннинька застала сестру среди роскошной, сравнительно, обстановки и легкомысленно решившею бросить сцену. В минуту приезда у Любиньки находился и «друг» ее, земский деятель Гаврило Степаныч Люлькин. Это был отставной гусарский штабс-ротмистр, еще недавно belhomme, но теперь уже слегка отяжелевший. Лицо у него было благородное, манеры благородные, образ мыслей благородный, но в то же время все, вместе взятое, внушало уверенность, что человек этот отнюдь не обратится в бегство перед земским ящиком. Любинька приняла сестру с распростертыми объятиями и объявила, что в ее квартире для нее приготовлена комната.
Но, под влиянием недавней поездки в «свое место», Аннинька рассердилась. Между сестрами завязался горячий разговор, а потом произошла и размолвка. Невольно вспомнилось при этом Анниньке, как воплинский батюшка говорил, что трудно в актерском звании «сокровище» соблюсти.
Аннинька поселилась в гостинице и прекратила всякие сношения с сестрой. Прошла Святая; на Фоминой начались спектакли, и Аннинька узнала, что на место сестры уже выписана из Казани девица Налимова, актриса неважная, но зато совершенно беспрепятственная в смысле телодвижений. По обыкновению, Аннинька вышла перед публикой в «Периколе» и привела самоваровских обывателей в восторг. Возвратившись в гостиницу, она нашла в своем номере пакет, в котором оказались сторублевая бумажка и коротенькая записка, гласившая: «А в случае чего, и еще столько же. Купец, торгующий модным товаром, Кукишев». Аннинька рассердилась и пошла жаловаться хозяину гостиницы, но хозяин объявил, что у Кукишева такое уж «обнаковение», чтоб всех актрис с приездом поздравлять, а впрочем-де, он человек смирный и обижаться на него не стоит. Следуя этому совету, Аннинька запечатала в конверт письмо и деньги и, возвратив на другой день все по принадлежности, успокоилась.
Но Кукишев оказался более упорным, нежели как об нем отозвался хозяин гостиницы. Он считал себя в числе друзей Люлькина и находился в приятельских отношениях к Любиньке. Человек он был состоятельный и, сверх того, подобно Люлькину, в качестве члена городской управы состоял в самых благоприятных условиях относительно городского ящика. И при сем, подобно тому же Люлькину, обладал неустрашимостью. Наружность он имел, с гостинодворской точки зрения, обольстительную. А именно, напоминал того жука, которого, по словам песни, вместо ягод нашла в поле Маша:
Затем, заручившись такою наружностью, он тем более считал себя вправе дерзать, что Любинька прямо обещала ему свое содействие.
Вообще Любинька, по-видимому, окончательно сожгла свои корабли, и об ней ходили самые неприятные для сестрина самолюбия слухи. Говорили, что каждый вечер у ней собирается кутежная ватага, которая ужинает с полуночи до утра. Что Любинька председает в этой компании и, представляя из себя «цыганку», полураздетая (при этом Люлькин, обращаясь к пьяным друзьям, восклицал: посмотрите! вот это так грудь!), с распущенными волосами и с гитарой в руках, поет: