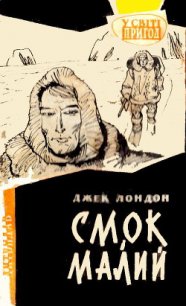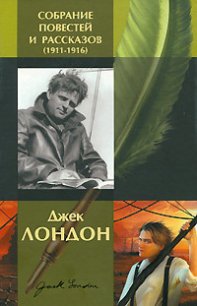Смок Беллью. Смок и Малыш. Принцесса - Лондон Джек (книга бесплатный формат TXT) 📗
— Идем! Поднимайтесь! — приказал ему Смок.
— Не могу, — простонал Мак-Кен.
Его скорченное тело содрогалось. Смок медленно подошел к Мак-Кену, с трудом заставляя себя преодолевать сковывавшую его летаргию. Он заметил, что мысли его ясны. Только тело было парализовано.
— Оставь его, — пробормотала Лабискви.
Но Смок заставил ирландца встать на ноги и повернул его лицом к пологому откосу, по которому им предстояло спуститься. Потом он слегка подтолкнул Мак-Кена, и тот, тормозя и правя палкой, нырнул в мерцание алмазной пыли и исчез.
Смок посмотрел на Лабискви. Она улыбалась и напрягала все силы, чтобы не упасть.
Кивком он приказал ей начать спуск, но она подошла к нему, и на расстоянии футов десяти друг от друга они понеслись вниз — в жалящую гущу холодного огня.
Как Смок ни старался тормозить, его тяжелое тело быстро стремилось вперед, и он понесся под откос со страшной быстротой, обгоняя Лабискви. Только когда он достиг обледеневшего ровного плато, скорость эта начала уменьшаться. Наконец ему удалось задержаться, к нему присоединилась Лабискви, и они вместе двинулись дальше, все медленней и медленней, пока не остановились. Летаргия сковывала их все сильнее. Самые бешеные усилия воли не могли заставить их двигаться быстрее улитки. Они проползли мимо Мак-Кена, скрючившегося на своих лыжах. Смок палкой заставил его встать.
— Мы должны сделать привал, — с мучительным трудом прошептала Лабискви. — А то мы умрем. Мы должны укрыться — так говорили старики.
Не тратя времени на развязывание узлов, она перерезала ремни своих тюков. Смок сделал то же самое, и, в последний раз взглянув на огненный смертоносный туман и на ложные солнца, они закутались в свои спальные мешки и крепко прижались друг к другу.
Они почувствовали, что на них валится какое-то тело, потом услышали слабый стон и проклятия, прерванные страшным приступом кашля, и поняли, что это Мак-Кен. Ирландец прижался к ним, кутаясь в свои меха.
Они начали задыхаться. Сухой кашель, судорожный и беспрерывный, терзал им грудь. Смок заметил, что у него поднимается температура. С Лабискви происходило то же самое. Приступы кашля все учащались и усиливались, к вечеру они достигли предельной силы. Потом, мало-помалу, кашель утих, и они задремали, терзаемые последними его приступами, окончательно обессиленные.
Мак-Кен, однако, продолжал кашлять все сильнее и сильнее, и по его стонам и воплям они поняли, что он бредит. Один раз Смок сделал попытку откинуть меха. Но Лабискви крепко вцепилась в него.
— Нет! — взмолилась она. — Открыться сейчас — значит умереть. Прижмись лицом к моей парке, дыши как можно спокойней и не разговаривай.
Так они дремали, окутанные мраком, будя друг друга постепенно ослабевающим кашлем. После полуночи, так решил Смок, Мак-Кен закашлялся в последний раз.
Смок проснулся от прикосновения чьих-то губ к его губам. Он лежал в объятиях Лабискви; его голова покоилась у нее на груди. Ее голос был весел и звучал как обычно. Глухой звук его исчез.
— Уже день, — сказала она, приподнимая край спальных мехов. — Смотри, любимый, уже день. И мы живы и не кашляем больше. Надо идти дальше, хотя я с радостью осталась бы здесь навсегда. Последний час был сладок. Я не спала и любила тебя.
— Не слышно Мак-Кена, — заметил Смок. — А что случилось с индейцами? Почему они не настигли нас?
Он откинул меха и увидел в небе обычное одинокое солнце. Дул мягкий, прохладный ветерок, предвещавший наступление теплых дней. Весь мир снова стал естественным. Мак-Кен лежал на спине; его немытое, закопченное дымом костров лицо было твердо, как мрамор. Это зрелище нисколько не огорчило Лабискви.
— Смотри! — воскликнула она. — Зимородок! Хорошая примета. Индейцы пропали бесследно.
XIV
Пищи было так мало, что они не решались съедать и десятую долю того, что им было необходимо, и сотую долю того, чего им хотелось. В последующие дни скитаний по пустынным горам все их восприятия притупились, и они брели как во сне. Время от времени Смок приходил в сознание и ловил себя на том, что тупо смотрит на бесконечные, ненавистные снежные вершины, а в ушах его еще звучит собственная бессмысленная болтовня. А потом проходили, казалось, века, и он снова чувствовал, что просыпается от своего же бормотания. Лабискви шла по большей части тоже бессознательно. Почти все их движения были бессознательны и автоматичны. И все время они пытались пробиться на запад, и все время снежные громады обманывали их и отбрасывали на север и юг.
— На юг пути нет, — говорила Лабискви. — Старики знают. Выход на западе, только на западе.
Вдруг стало холодно. Падал густой снег; это был даже не снег, а ледяные кристаллы, каждый величиной с песчинку. Весь день и всю ночь падали эти кристаллы и продолжали падать три дня и три ночи. Идти дальше было немыслимо; надо было подождать, пока под лучами весеннего солнца эти кристаллы не превратятся в сплошную массу. Смок и Лабискви лежали, закутанные в свои меха, и отдыхали и оттого, что не двигались, ели меньше. Порции, которые они назначали себе, были так малы, что голод, исходивший не столько от желудка, сколько от мозга, не утихал ни на одну минуту. И Лабискви в каком-то бреду, обезумев от вкуса жалкого кусочка мяса, всхлипывая и задыхаясь, издавая резкие, животные крики радости, набрасывалась на завтрашнюю порцию и жадно поглощала ее.
И тогда глазам Смока представлялось удивительное зрелище. Вкус пищи приводил ее в сознание. Она выплевывала мясо и в страшном гневе била себя кулаками по греховному рту.
И еще много удивительного пришлось увидеть Смоку в последние дни. После долгого снегопада подул сильный ветер, вздымавший сухие и легкие ледяные кристаллы, словно в песчаном смерче. Всю ночь напролет крутился ледяной песок, и при ярком свете ясного ветреного дня Смок, у которого темнело в глазах и кружилась голова, увидел картину, которую он сначала принял за галлюцинацию. Вокруг него громоздились высокие и низкие пики, одинокие часовые, сонмы могучих титанов. И с вершины каждого пика, колыхаясь, трепеща, расстилаясь по лазурному небу, веяли исполинские снежные знамена, длиною в целые мили, молочные и серебристые. В них сплетались свет и тени, золотистые солнечные блики пробегали по ним.
— Поразительное зрелище! — воскликнул Смок, глядя на эти тучи снега, спеленутые ветром в небесные знамена цвета серебристого шелка.
Он все смотрел, и знамена не исчезали, и ему казалось, что он грезит, пока Лабискви не встала на ноги.
— Я грежу, Лабискви, — сказал он. — Смотри! Неужели ты тоже мой сон?
— Это не сон, — ответила она. — Старики рассказывали мне об этом. Теперь подуют теплые ветры, и мы останемся живы и сможем отдохнуть.
XV
Смок подстрелил зимородка, и они поделили его. А в какой-то долине, где из-под снега начинали пробиваться цветы, он застрелил полярного зайца. В другой раз он добыл тощего белого хорька. И это было все мясо, которое им удалось найти.
Лицо у Лабискви исхудало, но яркие большие глаза ее стали еще больше и ярче, и когда она смотрела на него, ее лицо озарялось какой-то дикой, неземной красотой.
Дни становились все длиннее. Снег начинал оседать. Каждый день наст таял, и каждый день замерзал снова. Они шли утром и вечером, а в полуденные часы, когда наступала оттепель и наст не мог выдержать их тяжесть, им приходилось останавливаться и отдыхать. Когда блеск снега ослеплял Смока, Лабискви тащила его на ремне, привязанном к ее поясу. А когда этот блеск ослеплял ее, она шла позади, держась за ремень, привязанный к поясу Смока. Изнемогая от голода, в постоянном бреду, они блуждали по пробуждавшейся земле, на которой не было другой жизни, кроме их собственной.
Несмотря на истощение, Смок дошел до того, что начал бояться сна — так ужасны, так мучительны были сновидения в этой безумной сумеречной стране. Ему все время снилась пища, и все время коварная прихоть сна вырывала ее у него изо рта. Он давал обеды своим старым товарищам в Сан-Франциско и, изнемогая от голода, сам руководил приготовлениями и украшал стол гирляндами пурпурных листьев осеннего винограда. Его гости опаздывали. Здороваясь с ними и смеясь над их остротами, он сгорал от бешеного желания поскорее сесть за стол. Он исподтишка подкрадывался к нему, тайком хватал горсть черных, спелых маслин и тотчас же поворачивался, чтобы поздороваться с новым гостем. Гости окружали его, хохоча и перебрасываясь остротами, а он стоял и, как безумный, сжимал в руке горсть спелых маслин.