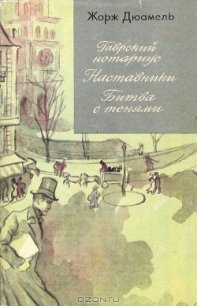Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье - Дюамель Жорж (читать книги полностью .txt) 📗
Он много курит. Когда из-за катара верхних дыхательных путей или из-за насморка ему запрещают курить, он смотрит на курящих с таким раздражением и завистью, будто с ним, с Ронером, поступили ужасно несправедливо.
Его нередко приглашают войти в состав какого-нибудь комитета, составленного из именитых лиц. Он соглашается с недовольным видом, жалуется, что его рвут на части. Но если его никто и никуда не приглашает, то он ворчит, что о нем вечно забывают и что все это возмутительно.
Нужно ли досказывать до конца? Этот человек со столь цепким, критическим складом ума суеверен. Разумеется, он не сознается в этом, но такое от нас не скроешь, его выдают некоторые причуды. Он не любит прикуривать третьим от одной спички. Он притрагивается к дереву, если опасается какой-нибудь досадной промашки. Он носит брелок с арабским амулетом, с которым он не расстался бы ни за что на свете. Как-то раз Шарль Рише пригласил его в качестве почетного гостя на знаменитый банкет тринадцати. Сначала Ронер принял приглашение, но в последнюю минуту с извинениями отказался.
Раз уж я заговорил о Рише, то расскажу тебе один случай. Однажды я зашел в зал для практических занятий. Шарль Рише занимался там со студентами. Огромный, худой, прищурив глаза, от которых разбегались симпатичные морщинки, засунув руку в брючный карман у пояса, он ходил взад и вперед перед черным столом. В тот момент, когда лаборант — уж не знаю для какого опыта — отрезал голову лягушки, Рише метнулся к животному и крикнул: «Погодите, погодите! Я сейчас разрушу церебральное вещество, уцелевшее еще в этом жалком кусочке тела. Пусть оно не мучается после нас». И своими чуткими пальцами сделал то, о чем только что говорил.
Я был тронут, ибо все это было сказано и проделано с удивительной простотой.
Не думай, что я ищу легковесного противопоставления. Шарль Рише — крупнейшая величина и притом натура крайне многогранная. Уверяю тебя, что, несмотря на бегло нарисованный мною портрет Ронера, он тоже величина. Я вижу его слабости, и если о них упоминаю, так делаю это как бы в отместку, ибо вообще-то считаю Ронера человеком исключительного ума. Так сказать, благородство без взаимности. Г-н Ронер всякий раз дает понять, что считает г-на Шальгрена круглым дураком. (Я пишу это слово скрепя сердце, так как оно обижает и смущает меня.) Он преисполнен удивительной злобы. Он, например, шипит: «Если говорить о прекрасной карьере, то он ее сделал. Господин Шальгрен один из тех, кто ничего не упустит, чтобы преуспеть».
Я отворачиваюсь, будто ничего не понимаю, и украдкой удираю в первую же открытую дверь. Мое положение становится все более и более трудным. Долго ли я смогу так продержаться? Не знаю. Иногда я испытываю такое чувство, будто г-н Ронер надеется через мою скромную особу донести до г-на Шальгрена свои самые язвительные замечания в его адрес. Он плохо рассчитал, и если в один прекрасный день поймет, что ошибся, то мне не поздоровится.
Все же не пойми превратно мои разглагольствования. Я еще раз повторяю тебе, что г-н Ронер — выдающийся человек. Г-н Шальгрен тоже замечательный человек. Но какие они разные! Да, я знаю: позднее, когда они оба умрут и пройдут века, оба их черепа, эти окаменелые чаши, почти не различишь. А сейчас вокруг и внутри этих чаш трепещет, бьется живая материя. И там, в лоне этой материи, рокочут две души, две враждующие души, которые непременно должны причинять боль друг другу.
Тороплюсь закончить это письмо. В моей конуре стоит ужасный холодище. Скоро ночь, и я устал.
Твой Л.
Глава XIII
Снисходительность и милосердие. Паук в своей паучьей пропасти. Разговоры о ядах. Сенак знает, что делает. «Молить» — глагол переходный. Воскрешение Тестевеля. Влияние морального климата на научные изыскания. Муки г-на Шальгрена. Гнев профессора Ронера. Печальная весть.
Несмотря на то, что в своем последнем письме ты осыпаешь Жан-Поля Сенака всевозможными малоприятными эпитетами, ты не прочь бы, как я понял, узнать о нем кое-какие подробности. Вижу, что мое молчание беспокоит тебя. Больше того: твоя неприязнь к нему, как мне кажется, вовсе не исключает милосердия, которое, впрочем, не следует смешивать со снисходительностью. И уверяю тебя, поскольку речь идет о Сенаке, то милосердие здесь, по-моему, вполне уместно.
Прошло много дней, а я все не встречал Сенака, и это меня, признаться, удивляло, так как иногда он захаживал завтракать к Папийону, а кое-когда даже и поднимался ко мне, узнав от консьержки, что я дома. Случалось, он навещал меня и в Институте, но там, конечно, я уж не бросался к нему с распростертыми объятиями, и тогда он утешался болтовней с Роком, Вюйомом и Совинье, особенно с Совинье, который по-прежнему испытывает свои интеллектуальные вирусы на особе Жан-Поля.
Итак, как-то утром на прошлой неделе я что-то искал в своем чуланчике, где хранятся всевозможные стаканы, колбы, ампулы, ступки, пробирки, и все ломал себе голову над его загадочным долгим молчанием. В этом закутке, среди вороха вещей, стоял большой белый куб из фарфора, которым никто и никогда не пользовался. Проходя мимо, я взглянул на него и заметил на дне его паука. Видимо, он попал сюда случайно из-за своих эквилибристических упражнений и теперь никак не мог выбраться наружу. Его лапки безнадежно скользили по гладкой стенке куба, а на чью-то помощь извне рассчитывать, разумеется, не приходилось. Увидя меня, он стремительно, решительно и ловко, на что способны одни лишь пауки, проделал четыре или пять коротких перебежек по вертикальной стенке сосуда, но тут же мгновенно скатился вниз на самое дно своей паучьей пропасти. Я представил себе, как этот паук или, если уж говорить откровенно, не паук, а я сам сижу в этом ужасном фарфоровом сосуде с неодолимой стенкой — сижу одинокий, никому не нужный, растерянный, отчаявшийся. Задумавшись, я долго стоял над сосудом, пока ко мне не прибежал по какому-то срочному делу Стернович. Я двинулся вслед за ним, но все никак не мог отделаться от мысли о пауке и, уж не знаю почему... о Сенаке. Мысль о нем до того истерзала меня, что в полдень я сел в омнибус и отправился к Сенаку в тот самый тупичок, где он обитал. Втайне я надеялся, что не застану его дома, но, уверяю тебя, дело здесь не в малодушии, а лишь в том, что излюбленное его одиночество всегда страшит меня. Стоит мне представить, как он один на один сидит со своими мыслями, и мне сразу же становится не по себе.
Увы, Сенак оказался дома. Уж не знаю, что делал он со своими псами — колотил ли их, ласкал ли, — но он весь был в шерсти. Увидев меня, он ничуть не удивился и сказал:
— Заходи, я тебя жду.
— Ты меня ждешь? Почему?
Сенак неопределенно пожал плечами и тут же, без всякого перехода, брякнул:
— А знаешь, Шальгрен меня выставил за дверь, да, да... выпроводил, будто простого слугу.
Господин Шальгрен ничего мне не говорил об этом. Да и нужно ли ему было мне говорить? Я пробормотал:
— Я и не знал...
Тогда Сенак и говорит:
— Он отдал мне за месяц жалованье, а сие доказывает, что он не прав. Впрочем, это неважно, но зато, благодаря этой вызывающей щедрости, в нашем распоряжении и кефаль, и голубь, и моя собственная персона. У нас будет чем набить утробу некоторое время.
На столе стояла бутылка водки — величайшая гадость, которую грузчики называют «вырвиглаз». Я не удержался и съязвил:
— Не только набить утробу, но и промочить горло!
Но Сенак заговорил рассудительным тоном:
— Жить без яда невозможно. Ведь человек — животное, кое непременно должно себя отравлять. Ты ведь прекрасно знаешь: даже дикари и те поступают так же. У китайцев есть опиум, у арабов — гашиш, у американцев — кока-кола и прочая дрянь. А у нас, европейцев, — вино и табак. И вот, пожалуйста!.. Те же, кто ничего не принимает внутрь, отравляются собственной слюной, как говорил Валлес, опьяняются злобой, которую они сдабривают своими идеями и причудами. Поступать иначе невозможно.