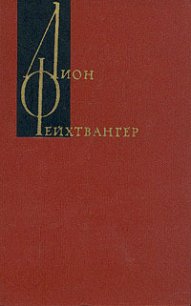Семья Опперман - Фейхтвангер Лион (бесплатные книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Пока мысли господина Вольфсона вертятся вокруг таких вещей, он чувствует себя еще сносно. Но есть часы, когда он ничего не ощущает, кроме страха, щемящего, убийственного страха. Они, очевидно, замышляют нечто ужасное. Если бы дело шло о пустяках, его бы давно допросили. Он вспоминает речи фюрера по радио о том, что судьи выносят слишком мягкие приговоры, что надо бы вновь ввести добрые методы седой старины: публично вешать преступников или топором отсекать им головы. Маркус Вольфсон представляет себе, как его в телеге везут к месту казни. Человек с топором будет, вероятно, во фраке. Никогда в жизни Маркусу не добраться туда живым. Он до этого двадцать раз умрет со страха.
Он тихо напевает, стараясь подбодрить себя. Когда нет этой ужасной тишины, ему легче. «Мозус цур ешуоси», – поет он, – оплот и твердыня моего спасения». Он поет немузыкально, но ему приятно петь. Большое утешение слышать человеческий голос, хотя бы всего только свой собственный. Он начинает петь громче.
– Заткни глотку, еврей, – гремит из-за двери голос, и камера снова становится голой, светлой, немой.
Третий день сидит он здесь. Он не брит, почти не мылся, потный, усики в беспорядке. Несмотря на новый фасад, бойкости в его лице и следа нет. Он тупо смотрит на стену. Его быстрые глаза давно впитали в себя все, что можно было видеть в этой камере.
В этот третий день его внезапно охватывает безмерное бешенство. Он встает. Выпрямившись, стоит он в своей клетке, выставив одну ногу. Прокурор только что кончил речь. Он сказал, что обвиняемый Маркус Вольфсон хищный волк, виновный в том, что Германия проиграла войну, и в том, что в стране инфляция, и в том, что вообще немецкий народ обанкротился, а потому он, прокурор, предлагает казнить виновного через отсечение головы. И вот слово имеет он, Маркус Вольфсон, и так как ему все равно спасенья нет, он выкладывает судьям всю правду в лицо. «Это гнусная ложь, милостивые государи, – говорит он. – Я хороший гражданин и налогоплательщик. У меня всегда было только одно желание – жить спокойно. Днем обслуживать покупателей, вечером поиграть немножко в скат, послушать радио, посидеть в своей квартирке, за которую я каждое первое аккуратно вношу плату. Продавать мебель – это же не враждебный государству акт. Не я виноват, господа судьи, виноваты те, со значками свастики, все эти господа Царнке, Цилховы и Кo. И хотя говорить о них запрещено, но ведь все, что говорят, сущая правда. Они подожгли рейхстаг, и они на ходу выбрасывают людей из вагонов, а после этакий тип во фраке рубит головы порядочным людям. Это вопиющая подлость, милостивые государи». Так сводил счеты со своими противниками Маркус Вольфсон, но, к несчастью, только в воображении. У судьи, сидевшего против него в черной мантии, в жабо и в берете, были белые здоровые зубы в рыжевато-светлые волосы, и вообще это был Рюдигер Царнке.
На четвертый день Маркус Вольфсон действительно предстал перед следователем. На нем, правда, была не черная мантия, а обыкновенный штатский костюм. «Рыночный товар, – определил господин Вольфсон. – Куплено в ларьке у перекупщика, а такие ларьки чаще всего содержат евреи. Скоро уж не у кого будет покупать, и им придется платить за костюмы дороже».
Его спросили, занимался ли он политикой, какие читает газеты. В сущности, допрос был совсем не страшный, и господин Вольфсон был даже рад поговорить после такого долгого молчания. Где и как он проводил свои вечера, в особенности во второй половине февраля? В это время господин Вольфсон уже не ходил к «Старым петухам», и он ответил совершеннейшую правду, что все вечера он проводил дома.
– Все? – переспросил следователь. У него был тоненький голос, и в вопросительных интонациях он забирался порой в очень высокий регистр. Вольфсон подумал.
– Да, все, – подтвердил он. Был там еще человек за пишущей машинкой, он вносил в протокол ответы Вольфсона.
– Значит, и в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое февраля вы тоже были дома? – спросил следователь.
– Как будто бы, – нерешительно сказал Вольфсон.
– Что вы делали в этот вечер? – допрашивал следователь.
Вольфсон напряженно припоминал.
– При всем желании не могу точно сказать. Обычно мы ужинаем, потом некоторое время разговариваем. Потом я, вероятно, читал газету и слушал радио.
– В этот вечер вы, по-видимому, проделывали все это необычайно тихо, – сказал следователь.
Вольфсона озарила смутная догадка. Ага, Царнке, ну, конечно, Царнке. Царнке шпионил за ним. Но они могут придраться к нему, если он что-нибудь говорил, а если он ничего не говорил, так и придраться не к чему. Он еще раз усиленно напрягает память. В ночь с 27 на 28 февраля? Ах, черт. Да ведь 28 февраля его шурин Мориц Эренрайх уезжал в Марсель; это было во вторник, а накануне вечером они отпраздновали проводы. Ну, конечно, в этот вечер он не был дома. И, весь засветившись, господин Вольфсон сказал следователю:
– Простите, господин следователь. Вы правы. В этот вечер меня действительно не было дома. Мы справляли проводы моего шурина Эренрайха. Шурин на следующий день уезжал с вокзала Фридрихштрассе, на вокзал я прийти не мог. Мы были в «Белой лилии», чудный кабачок на Ораниенштрассе. Скромное, но очень приличное заведение. Там замечательные сардельки, господин следователь. Это был любимый кабачок моего шурина.
– Так вы утверждаете теперь, что в этот вечер вы были с вашим шурином?
– Да, да, – подтвердил Вольфсон. Все это было занесено в протокол.
Снова водворенный в камеру, он так и не знал, чего от него хотят. Но по крайней мере он мог твердо сказать, что виновник его ареста не упаковщик Гинкель и не «старый петух» Шульце. И оттого, что виновны были не они, а злодей Царнке, тот самый Царнке, от которого он всегда ждал злейших пакостей, он почувствовал некоторое облегчение.
Фрау Вольфсон испуганно вздрогнула от резкого звонка: она не слышала шагов по лестнице. Вошли двое мужчин в коричневой форме ландскнехтов. Но это оказался господин Царнке, а с ним еще кто-то.
Господин Царнке вошел, стуча сапогами. В сущности, нет никакой необходимости извиняться, но, как человек порядка, он все-таки объясняет фрау Вольфсон, что управляющий предложил ему посмотреть эту квартиру. Фрау Вольфсон не возражает.
– Пожалуйста, – говорит она.
Господин Царнке и его спутник – это, конечно, его шурин, господин Цилхов, – осматривают квартиру. Фрау Вольфсон, сдерживаясь, молча стоит у двери. Она отлично знает, зачем пришли эти господа. Квартирка маленькая, смотреть особенно нечего, но оба посетителя почему-то очень долго не уходят. Господин Царнке представлял себе, что у евреев непременно должно быть грязно, запущенно. Он увидел, что, в сущности, эта квартира мало чем отличается от его квартиры. Больше того, он вынужден признать, что площадь использована здесь удачней, а о таком большом кресле он уже давно мечтал. И сама фрау Вольфсон, полная рыжеватая блондинка, не так неопрятна, как иногда бывает фрау Царнке, если застигнуть ее врасплох. Рюдигер Царнке человек справедливый.
– У вас чисто, – констатирует он, – ничего не скажешь, хотя муж ваш и предатель.
– Предатель? – повторяет фрау Вольфсон. – В своем ли вы уме? – Она могла бы сказать еще многое, и крепко и метко. Но она не глупа, а с тех пор как они забрали ее мужа, она вдвойне поумнела. Она знает, что помолчать – это во всех случаях самое умное. Она заметила, что и квартира и она сама произвели на Царнке хорошее впечатление. Пусть ругает ее Маркуса, она откажет себе в удовольствии ответить как следует. Молчок, молчок, – она не испортит хорошего впечатления. Может быть, Царнке смягчится.
Оба посетителя, в общем, всем довольны. Есть только одно досадное обстоятельство, и шурин господина Царнке особенно останавливается на нем: сырое пятно на стене. Они смотрят, как далеко оно зашло.
– Вы разрешите? – вежливо говорит Царнке и приподнимает картину «Игра волн».