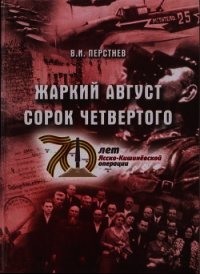Момент истины (В августе сорок четвёртого) - Богомолов Владимир Осипович (книги хорошего качества .TXT) 📗
«А всё-таки я его где-то встречал!» – размышлял Андрей, подпрыгивая в кузове и опираясь руками, чтобы смягчить толчки; ощущение, что он прежде когда-то видел этого человека, не оставляло его, но вспомнить: где? – он не мог, а заговорить не решался.
68. Помощник коменданта
Между тем капитан всю дорогу переживал, как неудачно сложился этот праздничный для него день. Размышлял он при этом невесело и вообще о своей службе в комендатуре, где после ранения, как ограниченно годный, он торчал уже два месяца, тоскуя по родному батальону и поминая недобрыми словами немецкую пулю, медицину и отдел кадров.
На восемь часов вечера у него было условлено свидание с девушкой из эвакогоспиталя, в котором он весною лежал. Для этой гордой и, как ему казалось, неприступной ленинградки с погонами лейтенанта медицинской службы он был вовсе не грозным помощником коменданта города, надменно-официальным, каким его знали военнослужащие, а просто Игорем, излишне самолюбивым и обидчивым, но симпатичным, а главное, интересным и – в последнее время – желанным парнем. Так, во всяком случае, она его понимала и так говорила, не зная, впрочем, о нём, пожалуй, самого существенного, того сокровенного, что он тщательно на войне от всех скрывал.
Ещё позавчера при последней встрече они договорились, что он придёт сегодня к восьми часам, и больше она ничего не сказала. Но от её ближайшей подруги – строго по секрету – он узнал, что у Леночки ныне день рождения и будет небольшое торжественное застолье – кроме него, приглашены ещё две подружки, а также начальник её отделения, молодой красавец грузин, как говорили, талантливый хирург, к тому же игравший на гитаре и вызывавший у помощника коменданта острую неуёмную ревность.
В его жизни это было не первое сильное увлечение.
Перед войной он влюбился в одну будущую актрису, студентку театрального института, и других девушек не замечал. Однако осенью сорок первого, когда он уже находился на фронте, связь между ними внезапно прервалась – она уехала в эвакуацию и как в воду канула. Болезненно переживая, он многие месяцы пытался её разыскать, увы, безуспешно, она же, очевидно, и не пыталась: знала его московский адрес, однако среди писем, пересылаемых матерью, от неё ничего не было.
Позже, под Сталинградом, он увлёкся по-настоящему переводчицей из штаба дивизии, приехавшей на пару часов в полк опросить немцев, захваченных его ротой. За ужином они разговорились; она оказалась москвичкой и более того – училась в соседнем с его домом институте.
Спустя неделю он отправил ей с оказией шутливую несмелую записку, не рассчитывая получить ответ, но она ответила хорошим, тёплым письмом. Переписка продолжилась, они обменивались дружескими посланиями каждую неделю и к моменту окружения немецкой группировки уже перешли на «ты».
В середине декабря была ещё одна чудесная встреча, когда его вызвали в штаб дивизии и затем он гулял с ней морозной ночью несколько часов. Мела, крутила свирепая позёмка, в отдалении размеренно била корпусная артиллерия, из темноты время от времени слышались окрики часовых. Трижды заснеженную степь вокруг ярко освещали САБы [48], сбрасываемые немецкими самолётами, и он видел рядом её пунцовое от мороза, прекрасное лицо. Она была в валенках и в полушубке поверх ватного костюма, а он, являвшийся перед тем к начальству, – в шинели и в сапогах. Чтобы не замёрзнуть, они непрерывно ходили и даже грелись пробежками, и всё же он продрог до костей, но был счастлив как никогда. В конце этого сказочного, так запомнившегося ему свидания она предложила, если позволят обстоятельства, встретить Новый год вместе.
Эта идея захватила его. По счастью, полк вывели во второй эшелон, и всё складывалось как нельзя благоприятно. Он понимал: ей легче отлучиться, чем ему оставить на ночь роту. Вместе с ординарцем он вылизал земляночку и выпросил на эти сутки у других ротных лучшую в полку табуретку и вполне приличный несамодельный стул. Как раз в это время один из офицеров, ездивший с машиной в дальнюю, за сотни километров командировку, привёз заодно с севера три ёлки. По приказанию командира полка их роздали по веточке во все землянки и блиндажи, и ему досталась небольшая, короткая, но густая пахучая лапа. Поставленная на крохотном самодельном столике под журнальным портретом Верховного Главнокомандующего, она стала главным и редкостным украшением – в безлесной степи, вблизи от передовой о ёлке можно было только мечтать.
31 декабря с сержантом из его роты, ехавшим по делу в штаб дивизии, он отправил переводчице только что вручённую ему посылочку – подарок от тружеников тыла: флакон духов, шерстяные варежки и пачку печенья. Внутрь вложил торжественно-шутливое приглашение, написанное «высоким штилем». В самом конце предложил: если она пожелает, его «верный оруженосец» (имелся в виду сержант) будет её сопровождать.
День минул, и, томясь ожиданием, он то и дело выходил из землянки и всматривался в темноту в том направлении, откуда они должны были появиться. Он ни разу не звонил ей в дивизию, зная, что разговоры могут слушать и от нечего делать слушают телефонисты, и никак не желая делать сокровенное, дорогое достоянием чужих ушей. В одиннадцатом часу, однако, не выдержав, он соединился через полк с дивизионным коммутатором и, не зная номера, назвал фамилию майора, её начальника, к которому он с самого начала без каких-либо к тому оснований её ревновал. Ответил чей-то юношеский тенор, но там, в штабном блиндаже, было весело, возможно, уже выпивали, звучали оживлённые голоса, в том числе и женские. Он попросил майора, но когда тот подошёл, сразу положил трубку: ему явственно показалось, что среди других он расслышал и её радостный голос, – от обиды и огорчения он чуть не закричал.
Это было настолько чудовищно неожиданным, что немного погодя, утешая себя, он подумал, что от штаба дивизии до его землянки каких-нибудь пять километров и за полтора с лишним часа она ещё вполне может успеть, особенно в сопровождении сержанта.
Успокоение, однако, оказалось недолгим. В двенадцатом часу, вызвав ординарца, он хватил с ним по стакану неразбавленного спирта и в полном молчании принялся есть с таким ожесточением, будто главным теперь было уничтожить всё припасённое и добытое не без труда на этот праздничный ужин. Они усиленно работали челюстями, когда вернулся наконец сержант, ввалился в землянку усталый, озябший и, прикрыв за собой дверь, молча и виновато достал из вещмешка посланную с ним посылочку.
В первое мгновение капитан (он тогда был ещё старшим лейтенантом), уже охмелевший, буквально задохнулся в приступе ревности, обиды и оскорбления, окончательно поняв, что она действительно предпочла ему другого или просто другое общество. Схватив перевязанный красной ленточкой свёрток, он вбросил его в раскалённую железную печурку и в душе проклял её.
Он подумал, предположил плохое, а случилось самое худшее: прошлой ночью её убило в соседнем полку, разметало на кусочки прямым попаданием снаряда в штабной блиндаж. Какое-то время он ходил совершенно потерянный.
Влюбился он, стало быть, не впервые, но такого, как теперь, с ним ещё не случалось.
Верно, только из-за Леночки смирился он на время со столь постылой ему комендантской должностью, решив потерпеть ещё месяц-другой и лишь тогда добиваться переосвидетельствования и снятия ограничения, в чём ему уже дважды отказывали. Он был непоколебимо убеждён, что во время войны мужчины должны воевать, а находиться в тылу, имея руки и ноги, постыдно. Поэтому-то он и отказывался категорически от оформления брони и демобилизации, чего добивались настойчиво в Москве его именитые педагоги.
Отношения с Леночкой развивались так, что вот-вот ему следовало высказаться, объясниться, соперничество грузина по-настоящему беспокоило, и сегодняшний вечер имел потому особое значение.
Узнав про день рождения, он помчался наутро к портному, который шил ему парадную форму, и просил всё ускорить и сделать на сутки раньше. Чтобы стимулировать срочность, пообещал сверх условленной платы ещё консервы из своего доппайка и сахар.
48
САБ – светящая авиационная бомба, предназначенная для освещения местности.