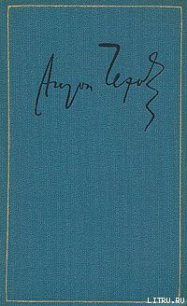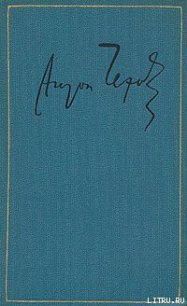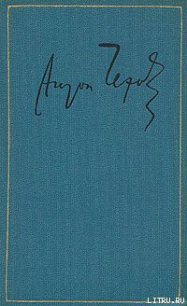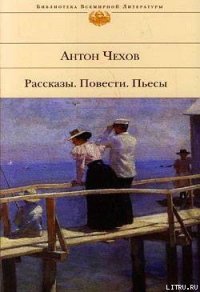Рассказы. Повести. 1892-1894 - Чехов Антон Павлович (читать бесплатно полные книги txt) 📗
Во всем верхнем этаже горела только одна лампа в зале, и ее слабый свет через дверь проникал в темную гостиную. Был десятый час, не больше. Анна Акимовна сыграла один вальс, потом другой, третий, – играла непрерывно. Она смотрела в темный угол за роялью, улыбалась, мысленно звала, и ей приходило в голову: не поехать ли сейчас в город к кому-нибудь, например, хоть к Лысевичу, и не рассказать ли ему, что происходит у нее теперь на душе? Ей хотелось говорить безумолку, смеяться, дурачиться, но темный угол за роялью угрюмо молчал, и кругом, во всех комнатах верхнего этажа, было тихо, безлюдно.
Она любила чувствительные романсы, но у нее был грубый, необработанный голос, и потому она только аккомпанировала, а пела чуть слышно, одним лишь дыханием. Она пела шёпотом романс за романсом, всё больше о любви, разлуке, утраченных надеждах, и воображала, как она протянет к нему руки и скажет с мольбой, со слезами: «Пименов, снимите с меня эту тяжесть!» И тогда, точно грехи ей простятся, станет на душе легко, радостно, наступит свободная и, быть может, счастливая жизнь. В тоске ожидания она склонилась к клавишам, и ей страстно захотелось, чтобы перемена в жизни произошла сейчас же, немедленно, и было страшно от мысли, что прежняя жизнь будет продолжаться еще некоторое время. Потом опять играла и пела чуть слышно, и кругом было тихо. Из нижнего этажа уже не доносился гул: должно быть, там легли спать. Давно уже пробило десять. Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь.
Анна Акимовна прошлась по всем комнатам, полежала на диване, прочла у себя в кабинете письма, полученные вечером. Было двенадцать писем поздравительных и три анонимных, без подписи. В одном какой-то простой рабочий ужасным, едва разборчивым почерком жаловался на то, что в фабричной лавке продают рабочим горькое постное масло, от которого пахнет керосином; в другом – кто-то доносил почтительно, что Назарыч на последних торгах, покупая железо, взял от кого-то взятку в тысячу рублей; в третьем ее бранили за бесчеловечность.
Праздничное возбуждение уже проходило, и чтобы поддержать его, Анна Акимовна села опять за рояль и тихо заиграла один из новых вальсов, потом вспомнила, как умно и честно она мыслила и говорила сегодня за обедом. Поглядела она кругом на темные окна и стены с картинами, на слабый свет, который шел из залы, и вдруг нечаянно заплакала, и ей досадно стало, что она так одинока, что ей не с кем поговорить, посоветоваться. Чтобы подбодрить себя, она старалась нарисовать в воображении Пименова, но уже ничего не выходило.
Пробило двенадцать. Вошел Мишенька, уже не во фраке, а в пиджаке, и молча зажег две свечи; затем он вышел и через минуту вернулся с подносом, на котором была чашка с чаем.
– Что вы смеетесь? – спросила она, заметив на его лице улыбку.
– Я внизу был и слышал, как вы шутили насчет Пименова… – сказал он и прикрыл рукой смеющийся рот. – Посадить бы его давеча обедать с Виктором Николаевичем и с генералом, так он помер бы со страху. – У Мишеньки задрожали плечи от смеха. – Он и вилки, небось, держать не умеет.
Смех лакея, его слова, пиджак и усики произвели на Анну Акимовну впечатление нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видеть его, и, сама того не желая, вообразила Пименова обедающего вместе с Лысевичем и Крылиным, и его робкая, неинтеллигентная фигура показалась ей жалкой, беспомощной, и она почувствовала отвращение. И только теперь, в первый раз за весь день, она поняла ясно, что все то, что она думала и говорила о Пименове и о браке с простым рабочим, – вздор, глупость и самодурство. Чтобы убедить себя в противном, преодолеть отвращение, она хотела вспомнить слова, какие говорила за обедом, но уже не могла сообразить; стыд за свои мысли и поступки, и страх, что она, быть может, сказала сегодня что-нибудь лишнее, и отвращение к своему малодушию смутили ее чрезвычайно. Она взяла свечу и быстро, как будто ее гнал кто-нибудь, сошла вниз, разбудила там Спиридоновну и стала уверять ее, что она пошутила. Потом пошла к себе в спальню. Рыжая Маша, дремавшая в кресле около постели, вскочила и стала поправлять подушки. Лицо у нее было утомленное, заспанное, и великолепные волосы сбились на одну сторону.
– Вечером опять приходил чиновник Чаликов, – сказала она, зевая, – да я не посмела докладывать. Уж очень пьяный. Говорит, что опять завтра придет.
– Что ему нужно от меня? – рассердилась Анна Акимовна и ударила гребенкой об пол. – Я не хочу его видеть! Не хочу!
Она решила, что у нее в жизни никого уже больше не осталось, кроме этого Чаликова, что он уже не перестанет преследовать ее и напоминать ей каждый день, как неинтересна и нелепа ее жизнь. Ведь она на то только и способна, чтобы помогать бедным. О, как это глупо!
Она легла, не раздеваясь, и зарыдала от стыда и скуки. Досаднее и глупее всего казалось ей то, что сегодняшние мечты насчет Пименова были честны, возвышенны, благородны, но в то же время она чувствовала, что Лысевич и даже Крылин для нее были ближе, чем Пименов и все рабочие, взятые вместе. Она думала теперь, что если бы можно было только что прожитый длинный день изобразить на картине, то всё дурное и пошлое, как, например, обед, слова адвоката, игра в короли, были бы правдой, мечты же и разговоры о Пименове выделялись бы из целого, как фальшивое место, как натяжка. И она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастье, что всё уже для нее погибло и вернуться к той жизни, когда она спала с матерью под одним одеялом, или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь уже невозможно.
Рыжая Маша стояла на коленях перед постелью и смотрела на нее печально, с недоумением, потом и сама заплакала и припала лицом к ее руке; и без слов было понятно, отчего ей так горько.
– Дуры мы с тобой, – говорила Анна Акимовна, плача и смеясь. – Дуры мы! Ах, какие мы дуры!
Скрипка Ротшильда
Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеичем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то – Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и всё хозяйство.
Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже семьдесят лет. Для благородных же и для женщин делал по мерке и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил:
– Признаться, не люблю заниматься чепухой.
Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его в оркестр с платою по пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого – плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда.
И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильду; он начинал придираться, бранить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его, и Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо: