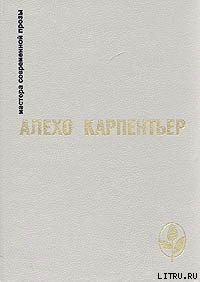Арфа и тень - Карпентьер Алехо (книги без сокращений txt) 📗
…Но не время мне приподымать завесу над тайнами, превосходящими мое понятие, и в час смирения, какого требует близость развязки – той развязки, когда ответчик, когда внесенный в список спрашивает себя, скоро ль будет ослеплен, опален устратающим видением Вовек Незримого Лика иль должен ожидать тысячелетиями, во мраке, часа, когда будет посажен на скамью для преступивших, уведен за перегородку для осужденных или заперт в обиталище долготерпения каким-нибудь крылатым приставом, ангелом-писцом, с перьями в крыльях и пером за ухом, держателем реестра душ. Но вспомни: подобными мудрствованиями ты грубо нарушаешь духовные устои своей веры, отводящие любое нескромное предположение. Вспомни, мореход, слова, какие помещены на плите, ежедневно попираемой верными в величайшем святилище толедском:
Как в тот раз, одним январским днем, в грохоте разбушевавшейся бури звучит голос – ясный и могучий, далекий и близкий одновременно – в твоих ушах: «О, глупец, мешкотный в вере и служении Богу твоему, богу всех. С тех пор, как ты родился, Он имел о тебе великое попечение. Не страшись, надейся: все терзания твои начертаны на мраморе и будут судимы по справедливости».
Да, я буду говорить. Я скажу все.
Из тягчайших грехов один был мне вовсе неведом: леность. Ибо что касается распутства, то в распутстве я жил, доколь не избавили меня от него более глубокие влечения и одно лишь имя Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес – слова, складывающиеся для меня в образ гордого благородства, красоты, царственного величия, высшей меты желаний, – не возвело мой дух к такому экстазу, что уже в самой форме гор, впервые представших взору христиан, нашел я сходство с другими формами, которые с трепетом и тоскою рисовали самые потаенные пути моей памяти… Еще с тех пор, как мой отец, не оставив ремесла чесальщика шерсти, открыл в Савоне лавку, где продавались сыры и вина, – с задней пристройкой, где завсегдатаи могли поднести стаканы к бочкам, чтоб потом содвинуть их над массивным столом орехового дерева, – я полюбил слушать рассказы моряков о своих приключениях, прикладываясь иногда к стаканчику красного вина, когда и мне тайком перепадало, – мне уж тогда сильно полюбилось вино, так что многие дивились позднее, что в моих походах я никогда не забывал взять на корабли как можно больше бочек и что когда приходилось заботиться о возделывании земель, то самые плодородные из тех, что даровал мне Промысл Божий, оставлял под возделывание лозы. Ной, предтеча всех мореходов, был первым, кто подал дурной пример, и поскольку вино горячит кровь и возбуждает греховные желания, то не было меж волнами портового притона, где б не изведали юношеского пыла моего, когда, к вящей обиде моего отца, мне вздумалось уйти в море… Напробовался я баб и на Сицилии, и на Хиосе, и на Кипре, и на Лесбосе, и на других островах более или менее мулатских кровей и их смесью из мавров, наполовину обращенных, недавних христиан, что упорно не хотят есть свинину, сирийцев, что крестятся на любую церковь, так что и не поймешь, к какому приходу они приписаны; греков, продающих своих сестер по часам и по звону колокольчика, торгашей, промышляющих всем на свете, содомитов, склонных к мужеложству или скотоложству, смотря по обстоятельствам; напробовался я баб, которые до всего ударяли в бубен или пощипывали струны халдейской арфы; «генуэзок», которые, придя из какого-нибудь еврейского квартала, заговорщицки подмигивали мне, прощупывая в мыслях и на деле; плясуний с отуманенными хмелем глазами, заставляющих в своих извивах трепетать бабочек, вытатуированных на их животах; других – мавританок почти всегда, – что хранят во рту полученные монеты, чтоб защитить свой язык от вторжения чужого; и тех, которые клянутся и божатся, что если взглянуть со спины, то они еще девушки, разве что какой благородный порыв заставит их отдать как великую услугу то, что они никогда никому не отдавали; и александриек, набеленных, нарумяненных, раскрашенных, как фигуры на носу корабля, – ровно покойницы, изображенные на крышках пышных саркофагов, еще не вышедших из моды в их стране; и тех, что отовсюду, тех, что стонут от изнеможения, и ах, ты их убиваешь, и ах, они уже умерли, и другого, как ты, на свете нет, и всего раза три дернутся да брыкнутся, пока, чтоб не заскучать, перебирают четки у тебя на спине, а ты силишься вызвать наслаждение, такое разрекламированное, что, кажется, заплатил бы за одну рекламу… Все это и много больше я уж испытал к тому времени, как очутился на суровой Сардинии и в Марселе, городе многих пороков, и это когда только через годы предстояло, плывя вдоль берегов Африки, познакомиться с темнокожими – одна другой чернее, – пока не доплыл до черным-черных из Гвинеи, с Золотого Берега, с ножевыми шрамами на щеках, ускользающим телом и крепким крупом, которых так справедливо предпочитают испанцы и португальцы – я говорю «справедливо», ибо, помнится, царь Соломон славился своими соломоновыми решениями и мудростью своего правления, но был не менее мудр, сбирая обильную жатву этих – «я есмь черна», nigra sum… – чьи груди напоминают гроздь винограда, черного сочного винограда, что, родившись на склоне горы, дает густое ароматное вино, вкусный след которого остается, пока не оближешь губы… Но не плотью единой жив человек, и я из моих плаваний вынес большой опыт в искусстве вести корабли – хотя, сказать по правде, более доверялся я своему особому умению различать запахи ветров, понимать язык туч и разгадывать волн цветные переливы, чем любым расчетам и приборам. Очень любил я следить полет птиц над землею и морем, ибо они более разумны, нежели человек, в избрании дорог, какие им подобают. Я признавал здравый смысл гиперборейцев, «живущих за северным ветром», которые – как мне рассказывали – брали с собою на корабли двух воронов, чтоб выпустить на свободу, когда во время какого-нибудь опасного плаванья сбивались с пути, ибо знали, что, если птицы не возвратятся, достаточно будет повернуть нос корабля в ту сторону, где они исчезли в полете, чтоб обнаружить землю на расстоянии нескольких миль. Эта мудрость птиц побудила меня изучить особенности и привычки некоторых животных, которые, к вящему изумлению туманного разума нашего, живут, и совокупляются, и плодятся во вселенной. Так узнал я, что носорог – «на носу рог, in nare cornus…» – только может быть укрощен в своей ярости, если пред ним поставить юную девушку, чтоб обнажила грудь, как он подступит, и «таким порядком (говорит нам святой Исидор Севильский) животное лишается своей дикости, дабы прильнуть головою к юнице». Не имея случая наблюдать столь чудовищное создание природы, я знал, однако, что василиск, царь змеиный, убивает своим взглядом всех себе подобных, так что нет птицы, что пролетела бы невредимой вблизи него. Знакома была мне и саура – ящерка, что, как станет стара и слепа глазами, забирается в щель стены, выходящей на Восток, и, когда всходит солнце, глядит на него, силясь увидеть, и вновь обретает зрение. Занимала меня также саламандра, которая, как известно, живет посреди пламени, не мучась и не сгорая; ураноскопус – рыба-звездочет, прозванная так потому, что у нее один глаз на голове и она все время глядит в небо; рыбы-прилипала, которые, если их много, могут задержать корабль настолько, что кажется, будто он пустил корни на морском дне; и еще меня, как детище моря, очень заинтересовал зимородок-рыболов, который зимой мастерит свое гнездо средь вод океана и там выводит птенцов, и еще говорит святой Исидор, что когда он выводит своих птенцов, то успокаиваются стихии и умолкают ветра на целых семь дней как дар природы этой птице и ее потомству. С каждым днем все более удовольствия находил я, изучая мир и его чудеса, – и от столь многого учения представлялось мне, будто мир раскрывает понемногу свои потайные двери, за которыми скрываются дива, еще не явленные большинству смертных. Я жаждал познать все. Я завидовал царю Соломону – наимудрейшему из мудрейших, – кто мог говорить о деревьях, начиная с ливанского кедра до иссопа-куста, растущего из стен, и знал также привычки всех во вселенной четвероногих, птиц, гадов и рыб. И как ему было не знать всего, если обо всем извещали его всякие вестники, посланцы, купцы и мореплаватели? Из Офира и Тарса прибывали грузы золота. В Египте покупал он свои колесницы, из Киликии прибывали для него лошади, а его конюшни в свою очередь снабжали скакунами царей хеттитов и царей Арамеи. Кроме того, он получал сведения о великом множестве вещей: о полезных свойствах растений, о случении животных, о пакостях, бесчинствах, кровосмешениях, распутствах, скотоложствах разных народов – через своих женщин, моавитянок, аммониток, эдомянок, финикиянок из Сидона, не говоря уж об египтянках; и куда как счастлив был он, мудрый муж, хитроумный муж, кто в своем роскошном дворце мог себе позволить, сообразуясь с погожестью дней и сменами собственной прихоти, семьсот главных жен и триста наложниц, не говоря уж о чужеземках, о проезжих или нежданных, вроде царицы Савской, которые ему еще платили за это дело. (Тайная мечта всякого настоящего мужчины!) И тем не менее, если обширен и разнообразен был мир, знакомый царю Соломону, сложилась у меня убежденность, что флот его в конечном счете плавал только по знакомым и неопасным путям. Ибо, если б не так, его мореходы привезли б известия о чудищах, упоминаемых путешественниками и мореплавателями, пересекшими пределы пространств, еще мало изведанных. По свидетельствам авторитетов непререкаемых, есть на Крайнем Востоке племена людей вовсе без носа, у которых все лицо ровное; у других нижняя губа так выдается, что для сна и защиты от солнечных лучей они ею укрываются до самого лба; иные имеют рот столь малый, что пищу могут получать только через овсяную соломину; есть и такие, что без языка и пользуются только знаками и движениями, чтобы сообщаться с близкими. В Скифии существует народ с такими большими ушами, что в них можно заворачиваться, как в плащ, спасаясь от холода. В Эфиопии живет одно племя, замечательное своими ногами и быстротою бега и которое летом, лежа на земле вверх лицом, создает тень своими стопами, такими длинными и широкими, что их удобно употреблять как солнечный зонт. В подобных странах можно встретить людей, что питаются только ароматами, и таких, у кого по шесть рук, и, что самое удивительное, женщин, родящих стариков, причем старики эти постепенно молодеют и превращаются в детей уже в зрелом возрасте. И чтоб далеко не искать, вспомним, что рассказывает нам святой Иероним, верховный учитель, описывая одного фавна, или козлонога, которого показывали толпам в Александрии и который оказался превосходным христианином вопреки всему, что думали люди, привыкшие связывать подобных существ с языческими баснями… И если теперь уж многие хвалятся, что хорошо знают Ливию, то верно и то, что им совершенно неведомо существование там людей-чудищ, что рождаются без головы, с глазами и ртом, помещенными там, где у нас пуп и соски. И в Ливии, сдается мне, живут также антиподы, у которых стопы вывернуты и на каждой по восемь пальцев. Но насчет антиподов мнения разделились, ибо некоторые путешественники утверждают, что народ этот представляет собою не что иное, как неприятную разновидность собакоголовых, циклопов, троглодитов, людей-муравьев и людей безглавых, не считая людей о двух ликах, подобных Янусу, богу древних… Что же касается меня, я не думаю, чтоб наружность антиподов была такова. Я уверен – хотя это мое только собственное мнение, – что антиподы весьма отличны по природе своей: дело идет просто о тех, кого упоминает святой Августин, хотя сей епископ города Гипоны, вынужденный говорить о них, поскольку о них повсюду говорят, сам скорее отрицает их существование. Если летучие мыши могут спать, повиснув на своих лапах; если многие насекомые без труда передвигаются по гладкому потолку каморки этого притона, где сейчас текут мои мысли – пока женщина пошла за вином в ближайшую таверну, – могут же быть на свете человеческие существа, способные ходить вниз головой, что б там ни говорил высокочтимый автор сочинения «Enchiridion», или «Руководство». Есть канатные плясуны, которые проводят полжизни, передвигаясь на руках, и виски у них не лопаются от прилива крови; еще рассказывали мне о святошах, где-то в Индиях, которые, упершись локтями в землю, напрягают тело и могут оставаться целые месяцы ногами вверх. Меньше чуда заключено в этом, чем когда Иона был во чреве кита три дня и три ночи, с челом, опутанным водорослями, и дыша, словно находился в родной стихии. Мы отрицаем многие вещи потому лишь, что наш ограниченный разум заставляет нас полагать, что они невозможны. Но чем больше я читаю и обретаю знания, тем больше вижу, что считавшееся невозможным в мыслях становится возможным в жизни. Чтобы удостовериться в этом, достаточно послушать рассказы неутомимых странствующих торговцев или прочесть описания великих мореплавателей, особенно их описания, таких вот, как этот Пифей, родом из Массалии, обученный финикийскому искусству гребли, который, поведя свой корабль к северу и все дальше и дальше к северу в своей ненасытной страсти к открытиям, дошел до места, где море затвердело, словно лед на горных пиках… Но думается мне, что я читал пока мало. Надо будет достать еще книг. В первую очередь книг, в которых повествуется о путешествиях. Мне говорили, что в одной трагедии Сенеки рассказывается об этом Язоне, что, отправившись к Западу от Понта Эвксинского во главе аргонавтов, нашел Колхиду с золотым руном. Надо мне познакомиться с этой трагедией Сенеки, она, видно, весьма полезные знания содержит, как и все, что написано древними.