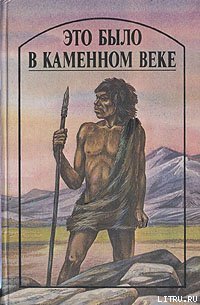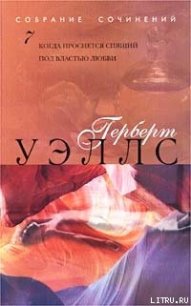Тоно Бенге - Уэллс Герберт Джордж (книги бесплатно txt) 📗
Я привык к несколько вольному образу жизни, хотя от природы склонен был к самодисциплине. Я никогда не любил потакать собственным слабостям. Философии, проповедующей словоблудие и чревоугодие, я всегда инстинктивно не доверял. Всегда и во всем я любил простоту, прямоту, строгость, сдержанность, четкие линии, холодные тона. Но в наше время, когда жизнь бьет через край, когда предметов первой необходимости с избытком хватает на всех и борьба за существование выливается в соперничество рекламы и стремление пустить соседу пыль в глаза, когда человеку не так уж необходимы ни храбрость, ни крепкие нервы, ни истинная красота, только случай помогает нам познать самих себя. В прежние времена огромное большинство людей не страдало от пресыщения, ибо у них не было возможности есть до отвала, все равно хотелось им этого или не хотелось, и все, за редкими исключениями, были бодры и здоровы, потому что им неизбежно приходилось работать физически и сталкиваться лицом к лицу с опасностями.
А теперь каждый, если только у него не слишком высокие требования к жизни и он не обременен чувством собственного достоинства, может позволить себе кой-какие излишества. Ныне можно прожить всю жизнь кое-как, ничему всерьез не отдаваясь, потворствуя своим прихотям и ни к чему себя не принуждая, не испытав по-настоящему ни голода, ни страха, ни подлинной страсти, не узнав ничего лучше и выше, чем судорога чувственного наслаждения, и впервые ощутить изначальную суровую правду бытия лишь в свой смертный час. Так, я думаю, было с моим дядей, почти так было и со мной.
Но планер властно поднял меня над всем этим. Я должен был выяснить, как он ведет себя в воздухе, а выяснить это можно было, только взлетев самому. И я не сразу решился на это.
Когда пишешь книгу, мне кажется, в какой-то мере отрешаешься от самого себя. Во всяком случае, мне удалось написать здесь такие вещи, которых я никогда и никому не мог бы высказать вслух: мне стоило огромных мучений заставить себя сделать то, что в Вест-Индии первый встречный абориген сделает и глазом не моргнув, — решиться на первый полет. Первая попытка далась мне тяжелее всего, да иначе и не могло быть: я ставил на карту свою жизнь и мог выиграть, а мог и погибнуть или остаться калекой — шансы были примерно равные. Это было ясно как день. Мне казалось, что мой первый планер очень напоминает по конструкции аэроплан братьев Райт, и все же я не был в нем уверен. Он мог перевернуться. Я сам мог опрокинуть его. При посадке он мог зарыться носом и разбиться вдребезги вместе со мной. В полете надо быть постоянно начеку; тут нельзя просто взять да и кинуться вслепую, нельзя ни горячиться, ни выпить стаканчик для храбрости. Надо в совершенстве владеть своим телом, чтобы сохранять равновесие. И когда я наконец полетел, первые десять секунд были ужасны. Добрых десять секунд, пока я несся по воздуху, прильнув всем телом к своему дьявольскому аппарату, и встречный ветер хлестал мне в лицо, а земля внизу стремительно уходила назад, я весь был во власти тошнотворного бессилия и ужаса. Казалось, какой-то могучий и бурный поток бьется в мозгу и в костях, и я громко стонал. Я стиснул зубы и стонал. Я не мог удержать стона, это было помимо моей воли. Ощущение ужаса дошло до предела.
А потом, вообразите, его не стало!
Внезапно это чувство ужаса прошло, исчезло. Я неуклонно шел ввысь, и никакого несчастья не стряслось. Я был необычайно бодр, полон сил, и каждый нерв был натянут, как струна. Я подвинул ногу, планер накренился, с криком ужаса и торжества движением другой ноги я его выровнял и снова обрел равновесие. Потом мне показалось, что я столкнусь с грачом, летевшим мне наперерез; это было поразительно — как неслышно, с быстротой метательного снаряда он ринулся на меня из пустоты, и в смятении я завопил: «Прочь с дороги!» Грач сложил было крылья, став на мгновение похожим на перевернутую римскую пятерку, потом замахал ими, круто свернул вправо, и больше я его не видел. Потом я заметил внизу тень моего аппарата; она скользила передо мною по земле прямо и уверенно, держась на одном и том же расстоянии, а земля словно убегала назад. Земля! В конце концов она убегала не так уж быстро…
Когда я спланировал на ровный зеленый лужок, который выбрал для посадки, я был спокоен и уверен в себе, как какой-нибудь клерк, который на ходу прыгает с подножки омнибуса, и за это время я научился не только летать, но еще очень многому. Я задрал планер носом кверху как раз вовремя, снова выровнял и приземлился мягко, как падают наземь снежные хлопья в безветренный день. Мгновение я лежал плашмя, потом приподнялся на колени, встал, еще весь дрожа, но очень довольный собой. С холма ко мне бежал Котоп…
С этого дня я начал тренироваться и тренировался еще многие месяцы. Ведь целых полтора месяца я под разными предлогами со дня на день откладывал испытания, потому что меня так страшил этот первый полет, потому что за годы, отданные коммерции, я ослаб и телом и духом. Позорное сознание собственной трусости терзало меня ничуть не меньше оттого, что, по всей вероятности, о ней знал лишь я один. Я чувствовал, что Котоп, во всяком случае, мог кое-что заподозрить. Ну, ничего, впредь у него не будет повода для подозрений.
Любопытно, что чувство стыда, свои самобичевания и все дальнейшее я помню гораздо лучше, чем недели сомнений и колебаний перед взлетом. Некоторое время я в рот не брал ни капли спиртного, бросил курить, строго ограничивал себя в еде и каждый день понемногу так или иначе упражнял свои нервы и мускулы. Я старался как можно чаще летать. В Лондон я теперь ездил не поездом, а на мотоцикле, храбро ныряя в поток движения, стремящегося на юг, и даже попробовал испытать прелести верховой езды. Правда, поначалу мне досталась искусственная лошадка, и я, быть может, без достаточных оснований проникся презрением к надежному конному спорту, который никогда не одарит тебя такими сильными ощущениями, как механизм.
Далее, я упражнялся в ходьбе по гребню высокой стены, ограждавшей сад позади «Леди Гров», и под конец заставил себя даже, доходя до ворот, перескакивать со столба на столб. Если при помощи всех этих упражнений я и не совсем избавился от некоторой склонности к головокружению, то, во всяком случае, приучился не обращать на это внимания. И вскоре меня уже не страшил полет, напротив, мне не терпелось подниматься все выше, и я стал понимать, что полет на планере даже над самой глубокой впадиной меж нашими холмами, до дна которой всего каких-нибудь сорок футов, — это еще не настоящий полет, а просто насмешка. Я начал мечтать о том, чтобы подняться выше, над буковыми лесами, вдохнуть прохладу больших высот, и, пожалуй, не столько естественный ход моей работы, сколько это желание заставило меня немалую долю своей энергии и своих доходов отдать созданию управляемого воздушного шара.
Я уже далеко вперед ушел в своих опытах; успел дважды разбиться и сломать ребро, и тетушка с присущей ей энергией выходила меня; я уже приобрел некоторую известность в мире аэронавтов — и вдруг в мою жизнь вновь вошла Беатриса Норманди, словно она и не исчезала никогда — темноглазая, с волной непокорных, как в детстве, кудрей, откинутых со лба. Верхом на крупном вороном коне она ехала глухой тропинкой по заросшему кустарником склону холма, на вершине которого виднелась «Леди Гров»; ее сопровождали старый граф Кэрнеби и сводный брат Арчи Гервелл.
Дядюшка донимал меня разговорами о проводке горячей воды в Крест-хилл, откуда мы и возвращались другой тропой, и на перекрестке нам неожиданно повстречались три всадника. Граф Кэрнеби ехал по нашим владениям, поэтому он приветливо поздоровался, осадил коня и заговорил с нами.
Сначала я даже не заметил Беатрису. Мне интересно было поглядеть, каков этот лорд Кэрнеби и осталось ли в нем что-нибудь от дней его блистательной юности. Я много слышал о нем, но никогда прежде его не видал. Для человека шестидесяти пяти лет, повинного, как говорили, во всех смертных грехах и безвозвратно загубившего свою политическую карьеру, которая начиналась с таким триумфом, каким не мог похвастать никто из представителей его поколения, лорд Кэрнеби показался мне на редкость крепким и бодрым. Он был невысок, худощав, с серо-голубыми глазами на смуглом лице, и лишь его надтреснутый голос производил неприятное впечатление.