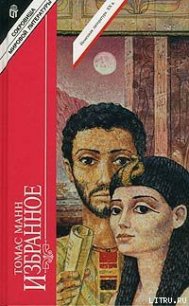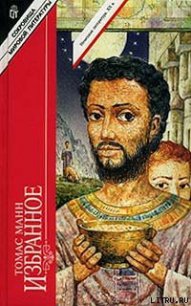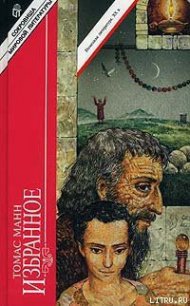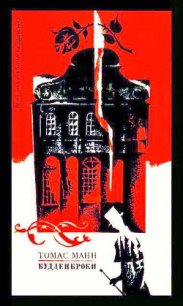Признания авантюриста Феликса Круля - Манн Томас (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
— Сеньора Мейер, вероятно, красавица? — поинтересовалась Зузу.
— Мне это неизвестно, мадемуазель. Но раз ей удалось так скоро обзавестись новым женихом, то надо полагать, что она недурна собою.
— То же самое, по-вашему, надо полагать и о ее детях, этих самых Новаро? Как, кстати, их зовут?
— Я не припомню, чтобы родители называли мне их имена.
— Бьюсь об заклад, что вам очень не терпится узнать их.
— Зачем?
— Не знаю, только вы с нескрываемым интересом говорили об этой парочке.
— Этого я за собой не заметил, — отвечал я, уязвленный в глубине души. — Я ведь не имею ни малейшего представления об этих молодых людях, но не буду отрицать, что двуединый образ брата и сестры всегда представлялся мне обаятельным.
— Сожалею, что мне пришлось предстать перед вами одинокой и в единственном числе.
— Во-первых, — с поклоном отвечал я, — в единственности тоже немало обаяния.
— А во-вторых?
— Во-вторых? Я нечаянно сказал «во-первых». И никакого «во-вторых» не знаю. Разве что, конечно, существуют и другие очаровательные комбинации, кроме сестры и брата.
— Па-та-ти-па-та-та!
— Не надо так говорить, Зузу, — вмешалась мать в нашу словесную перепалку. — Что подумает маркиз о твоем воспитании?
Я поспешил заверить, что мои мысли о мадемуазель Зузу не так-то легко выбить из уважительной колеи. С завтраком как раз было покончено, и мы перешли пить кофе в гостиную. Профессор объявил, что не может принять участия в нашей ботанической прогулке, так как должен вернуться к себе в музей. Мы все вместе спустились в город, но на авенида да Либердада он с нами распрощался, с искренней теплотой пожав мне руку — надо думать, в знак благодарности за живой интерес к его музею. Он сказал, что я очень приятный, очень желанный гость в его доме и останусь таковым на все время моего пребывания в Лиссабоне. Если у меня выберется время и я захочу «тряхнуть стариной» и сыграть партию-другую в теннис, то его дочь с удовольствием введет меня в местный клуб теннисистов.
Зузу с воодушевлением подтвердила его слова.
Еще раз пожимая мне руку, он с добродушно-снисходительным видом кивнул в ее сторону, как бы и меня прося о снисхождении.
С того места, где мы распрощались с профессором, и правда было рукой подать до волнистых холмов, среди которых по берегам прудов и озер, в гротах и на залитых солнцем отлогих склонах раскинулись знаменитые насаждения — цель нашего похода. Двигались мы в различном, порядке; иногда дон Мигель и я шли по бокам сеньоры Кукук, а Зузу быстро шагала впереди. Потом я вдруг оказывался один подле горделивой дамы; Зузу и Хуртадо мелькали в отдалении. Случалось нам оставаться и вдвоем с Зузу, так что за нами или перед нами шествовала сеньора с дермопластиком, который, впрочем, чаще шел возле меня, стремясь растолковать мне особенности здешнего ландшафта, чудеса этого растительного мира, и, признаюсь, так мне было всего приятнее, конечно, не из-за «чучельщика» и его объяснений, а потому, что пресловутое «во-вторых», которое я так рьяно отрицал, являлось мне тогда в обворожительном сочетании матери и дочери.
Здесь будет уместно заметить, что природа, какой бы обольстительной и достопримечательной она ни была, не может занять наше внимание, если оно целиком обращено на «человеческое». Несмотря на все свои претензии, она — только кулисы, декорация. Но надо отдать ей справедливость: здесь она действительно заслуживала всяческого признания. Гигантские кониферы [191], достигавшие пятидесяти метров в высоту, повергали меня в изумление. Местами этот очаровательный уголок земли, изобиловавший веерными и перистыми пальмами из всех частей света, своей буйно переплетающейся растительностью напоминал девственный лес. Экзотические тростники, бамбук и папирус окаймляли искусственные озерца, по водам которых плавали пестроперые утки. То тут, то там в темной зелени мелькали густые околоцветники, из которых вздымались огромные початки бутонов. Древовидные папоротники — эта древнейшая растительность земли — местами образовывали путаные и неправдоподобные рощи с неистово разросшимися корнями и стройными стволами, над которыми вздымались листья, густо обсыпанные коричневыми спорами.
— На земле насчитывается очень мало уголков, — заметил Хуртадо, — где еще произрастают древовидные папоротники. Вообще же папоротнику, не знающему цветения, да, собственно, и не имеющему семян, народные поверья с древнейших времен приписывают таинственные и чудесные свойства, и прежде всего способность любовной ворожбы.
— Фу! — фыркнула Зузу.
— Что вы хотите этим сказать, мадемуазель? — осведомился я. — Я просто удивляюсь, почему деловито научное упоминание о «любовной ворожбе», ничуть не уточненное, у вас вызвало столько эмоций. Какое из этих двух слов возмутило вас? Любовь или ворожба?
Она не отвечала, только смерила меня гневным взглядом и даже сделала какое-то угрожающее движенье головой.
Тем не менее вышло так, что я очутился рядом с нею, и мы пошли следом за зверевосстановителем и расово гордой maman.
— Любовь и сама по себе ворожба, — сказал я. — Что ж удивительного, что первобытные люди, так сказать, люди папоротниковой эпохи, которые, конечно, имеются и сейчас, ибо на земле все существует одновременно и вперемешку, пробовали ворожить при помощи папоротниковых листьев?
— Это непристойная тема, — оборвала она меня.
— Любовь? Как жестоко вы это сказали! Красота вызывает любовь. Чувства и мысли тянутся к ней, как венчик цветка к солнцу. Не думаете же вы исчерпать красоту вашим односложным восклицанием?
— По-моему, это пошлость — при красивой внешности наводить речь на красоту.
Такая прямота заставила меня ответить следующее:
— Вы очень злы, сударыня. Неужели же человека с благопристойной внешностью следует карать, лишая его права на восхищение? По-моему, безобразие скорей заслуживает кары. Я лично, из врожденного уважения к свету, на который мне предстояло явиться, всегда воспринимал уродство как своего рода пренебрежительное к нему отношение и, образуясь, порадел о том, чтобы не оскорблять его взгляда. Вот и все. Я считаю это признаком внутренней дисциплинированности. Вообще же тому, кто сидит в стеклянном домике, не пристало бросаться камнями. Вы сами так красивы, Зузу, так обворожительны ваши волосы, спущенные на маленькие ушки. Я не могу досыта наглядеться на них, Зузу, и даже успел уже их зарисовать.
Я не солгал. После завтрака в нише моего элегантного салона, куря сигарету, я пририсовал к изображениям нагой Заза, сделанным рукою Лулу, спущенные на уши локоны Зузу.
— Что! Вы позволили себе меня зарисовать? — сквозь зубы прошипела она.
— Ну да, с вашего разрешения, вернее, без оного. Красота — это не частная собственность, а всеобщее достояние, достояние сердца. Она не может помешать возникновению чувств, ею возбуждаемых, и не может запретить попытки воссоздать ее.
— Я хочу видеть этот рисунок.
— Не знаю, можно ли это сделать, вернее, хватит ли у меня на то смелости.
— Меня это не касается. Я требую, чтобы вы передали мне ваш рисунок.
— Это не один, а множество рисунков. Я подумаю, когда и где мне можно будет их вам показать.
— «Когда» и «где» как-нибудь устроится. О «можно» и речи нет. Сделанное вами за моей спиной — все равно моя собственность, а то, что вы сейчас сказали о «всеобщем достоянии», — это уж просто… бесстыдство.
— Меньше всего я хотел обидеть вас, и я в отчаянии, если вы считаете мой поступок невоспитанным. Я сказал «достояние сердца», и разве же это не так? Красота беззащитна перед нашими чувствами. Пусть они ее не затрагивают, не волнуют, ни в какой мере ее не касаются, а все-таки она перед ними беззащитна.
— Вы что, не можете подыскать другую тему для разговора?
— Другую тему? Весьма охотно! Или, вернее, не охотно, но с легкостью. Например, — я заговорил громко и нарочито «светским» голосом, — разрешите узнать, не знакомы ли вам и вашим уважаемым родителям господин и госпожа де Гюйон, то есть люксембургский посланник и его супруга?
191
Кониферы — хвойные.