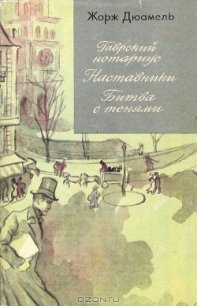Жорж Дюамель. Хроника семьи Паскье - Дюамель Жорж (читать книги полностью .txt) 📗
Но оставим это, старина, и вернемся к людям. Ты говоришь, что получил известие о Тестевеле. Я тоже: он прислал мне из Порт-Саида открытку, очень бодрую открытку.
Тестевель не знает и не должен знать, что теперь вместо него страдает Ларсенер. Да, пришла очередь Ларсенера. Несколько раз в неделю он обязательно плачется мне. Сюзанна упрекает его в том, что он поверг Тестеве-ля в отчаяние. Отныне Тестевель пребывает в ореоле легендарной славы. Он, видите ли, силен, добр, нежен. Он даже красив и обаятелен. Ларсенер принимается жаловаться, испускать вопли отчаяния. Несмотря на это, его последние работы превосходны. Меня тревожит Сюзанна. Она, кажется, не понимает ни своей власти, ни своих действий. На днях я случайно открыл «Дон-Кихота» и увидел следующие строки, которые и переписываю для тебя без всяких комментариев: «Впрочем, учти: я не выклянчивала и не выбирала для себя такой красоты; это — безвозмездный дар небес. И как нельзя обвинять гадюку в том, что она таит в себе смертельный яд — ибо яд этот дала ей сама природа, — так и меня нельзя упрекать в том, что я красива».
Гадюка! Яд! Бедная маленькая Сюзанна, бедная милая сестренка Сюзанна!
Vale. Твой Лоран.
Глава XVI
Смерть Катрин Удуар. Чувства не должны мешать научному эксперименту. Дорога разума. Величие и мизерность профессии медика. Счастье забвения. Крохотная анатомичка в подвале. Гимн во глубине подвала. Гнев Паскье. Горестные часы
Катрин умерла. Все кончено. Вот она и освободилась от всего: от страданий, от ужасных мук ожидания конца, от боли и радости, от солнца и сумерек, от неведения и знания, ото всех нас и от самой себя. Мягкий, чуть испуганный взгляд никогда уж больше не обратится ко мне в полутемной лаборатории. Красивый, низкий и вибрирующий голос никогда уж больше не поведает мне тех грустных историй о детстве, которые составляли все ее богатство. Все кончено, бедную Катрин навсегда покинула грусть.
Она умерла в пятницу вечером. Я знал уже в среду, что конец неизбежен. Сначала выплыл на сцену, говоря красноречивым языком медиков, артрит коленного сустава. Потом Лепинуа снова заговорил о сепсисе. Наконец, появились признаки нервного расстройства, и болезнь стала стремительно развиваться.
Я предупредил Ронера. Он пришел: порывистый, насмешливый, уверенный в себе. Он только спросил: «Сердце?» Я замотал головой, дабы он понял, что с сердцем пока все в порядке. Он пожал плечами и вытолкнул меня в коридор. Пожевав ус, с хрустом подергав один за другим пальцы, он сказал с упрямым видом:
— Эндокардит неизбежен. Впрочем, там это будет видно.
Он прищурил глаз и с этими словами ушел. Я сразу все понял. Меня особенно покоробил тон Ронера: ни малейшего жеста сочувствия, ни малейшего слова сожаления, он даже не удостоил взглядом эту молчаливую женщину, которая, как ни говори, была верной служанкой в нашем храме и вот теперь стала жертвой нашей религии. Потом вдруг я подумал о профессоре Лелю, с которым я работал целый год в больнице Бусико. Это превосходный человек и знающий медик. Возможно, его интересуют не столько больные, сколько сами болезни. Он никогда не решается высказать у постели больного свой окончательный диагноз. Обычно он говорит: «Позднее будет видно, там...» Для нас, его учеников, это «там» означает анатомичку, где тело больного, освобожденное наконец от жизни, открывает под ножом патологоанатома все свои секреты. Все мысли мэтра работали в этом направлении. Увидев однажды, как один больной, заблудившись, толкается в дверь анатомического зала, профессор Лелю выпроводил беднягу прочь и по-отечески предупредительно воскликнул: «Нет, нет, друг мой! Вам еще рано».
Своим «там» Ронер неожиданно напомнил мне о традиционной фразе Лелю, и мне стало нестерпимо горько.
Ночь с четверга на пятницу я провел в палате Катрин, рядом с монахиней. Я сказал, что мне якобы необходимо понаблюдать за симптомами ее болезни. А на самом деле мне хотелось отдать последние почести этой почти безымянной привязанности, не прожившей на свете даже и трех месяцев, той самой привязанности, что вскоре упокоится в глубине моего сердца, заняв свое место среди невинных воспоминаний, которые можно ворошить без краски стыда на лице. Катрин бредила уже второй день и не узнавала меня. Ночью я выходил два или три раза в больничный сад глотнуть хоть немного свежего воздуха. Стояла холодная, глухая, молчаливая ночь, ночь, которая опрокидывала и отгоняла прочь все мучительные вопросы.
Днем в пятницу Катрин была еще жива. Я забежал в Коллеж, но задержался там буквально на минуту. В Коллеже никто не знает Катрин, и никто поэтому даже и не поинтересовался ею.
Вечером пришло избавление. Тебе, наверно, никогда не приходилось закрывать глаза покойнику, дорогой мой Жюстен. Это жест милосердия, особенно по отношению к живущим. Обычно это делается большим и указательным пальцами руки. Спешка здесь неуместна, потому что какое-то время нужно подержать веки сомкнутыми. Я закрыл глаза Катрин, а сестра подвязала платком челюсть, чтоб рот был плотно закрыт.
Мне хотелось провести ночь у одра покойной, но это бы удивило монахинь, а подходящего предлога у меня не нашлось. Я пошел предупредить г-на Ронера. В смерти есть все-таки какая-то непостижимая, великая сила, ибо даже Старик выдавил из глубины своей черствой души слова сострадания, жалкие, навязшие в зубах слова. Он сказал: «Какое горе». Потом он тут же, не теряя ни секунды, снова оказался во власти своих маниакальных мыслей. Он отбросил сигарету, потер руки — поверь, я ничуть не преувеличиваю — и пробормотал:
— Предстоит любопытнейшее вскрытие!
Я пролепетал:
— Но, сударь...
Тогда он уставился на меня своими леденящими, голубыми глазами, пронзительный взгляд которых я не могу вынести, и отчеканил:
— Мы сделаем вскрытие вместе, — вы слышите, Паскье? Мне сказали, что у госпожи Удуар нет семьи. Следовательно, никто не потребует тела, и в воскресенье утром мы вдвоем сделаем вскрытие. Лепинуа я поставлю об этом в известность.
Я снова было заикнулся:
— Сударь, должен вам признаться. ..
Ронер вдруг впал в тот самый саркастический и едкий тон, который служит для него одной из форм своеобразной обороны, — нечто похожее наблюдается у насекомых, которые меняют окраску при нападении врага.
— В чем вы должны мне признаться? Что вы, может, спали с госпожой Удуар? А если бы даже и так...
— Да нет же, сударь, уверяю вас.
— Не оправдывайтесь. Если бы даже было и так, это не может вам помешать выполнить свои обязанности. Хватит сантиментов, дорогой мой. Речь идет о научной истине, а все остальное не в счет. Поверьте мне, предоставьте испускать слезные вопли и вздохи салонным биологам, чьи имена я предпочитаю не называть. Им бы не наукой заниматься, а бренчать на мандолине. Неслыханно! Целых два или три месяца мы стремились выявить и определить границы новой болезни, докопаться до самой ее сущности, наконец нам представляется хоть и печальный, но тем не менее исключительный, а может, даже единственный в своем роде случай завершить некоторые наши наблюдения, ибо идиотские законы пока еще запрещают нам экспериментировать на человеке... Единственный случай, который позволил бы нам теперь действовать наверняка. И вот господин Паскье, мой ассистент, начинает хлопать глазами и привередничать. Может, господин Паскье хочет меня уверить, что он ошибся в выборе карьеры? В общем, дорогой мой, в воскресенье, в десять утра, я вас жду там.
Он повернулся и ушел. Ты, Жюстен, — поэт, философ, человек критического и оригинального склада ума, — ты спросишь себя, наверное, почему я ничего ему не ответил. Но ты не можешь себе и представить, что значит для нас, молодых людей, новичков в медицине или в других науках, наш наставник, наш мэтр. Тебе не понять, что требование почтения и повиновения очень сильно действуют на нас, что один только взгляд или одно только слово наставника бросает нас в краску, в дрожь, а иногда даже повергает в слезы. Тебе не понять, что, несмотря на всю свою жестокость, г-н Ронер, никогда не искавший дороги к моему сердцу, находит иногда другую дорогу — дорогу к моему разуму, и тогда я теряюсь от волнения и не знаю, что ему ответить. Одним словом, я опустил голову и промолчал.