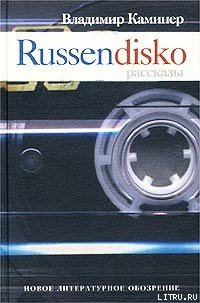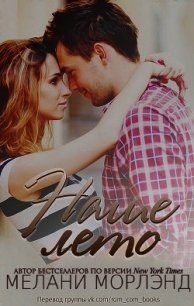Дар - Набоков Владимир Владимирович (полная версия книги TXT) 📗
Скандал уже выпирал отовсюду, причем к огорчению Ширина обнаружилось, что есть еще одна партия желающих захватить власть, а именно та группа вечно обойденных, в которую входил и мистик, и господин индейского вида, и маленький бородач и еще несколько худосочных и неуравновешенных господ, из которых один вдруг начал читать по бумажке список лиц – совершенно неприемлемых, – из которых предлагал составить новое правление. Бой принял новый оборот, довольно запутанный, так как было теперь три воюющих стороны. Летали такие выражения, как «спекулянт», «вы не дуэлеспособны», «вас уже били»… Говорил даже Буш, говорил перекрикивая оскорбительные возгласы, ибо из-за природной темноты его стиля никто не понимал, что он хочет сказать, пока он сам не объяснил, садясь, что всецело присоединяется к мнению предыдущего оратора. Гурман, усмехаясь одними ноздрями, занимался своим мундштуком. Васильев покинул свое место и, сев в угол, делал вид, что читает газету. Лишневский произнес громовую речь, направленную главным образом против члена правления, похожего на мирную жабу, который при этом только разводил руками и обращал беспомощный взгляд к Гурману и к казначею, старавшимся не смотреть на него. Наконец, когда поэт-мистик, шатко встав и качаясь, с многообещающей улыбкой на потном, буром лице, начал говорить стихами, председатель бешено зазвонил и объявил перерыв, после которого долженствовало приступить к выборам. Ширин метнулся к Васильеву и принялся его уговаривать в углу, а Федор Константинович, почувствовав внезапную скуку, нашел свой макинтош и выбрался на улицу.
Он сердился на себя: ради этого дикого дивертисмента пожертвовать всегдашним, как звезда, свиданием с Зиной! Желание тотчас ее увидеть его мучило своей парадоксальной неосуществимостью: не спи она в двух с половиной саженях от его изголовья, доступ к ней был бы легче. Потянулся по виадуку поезд: зевок дамы, начавшийся в освещенном окне головного вагона, был закончен другою – в последнем. Федор Константинович тихо пошел к трамвайной остановке, вдоль маслянисто-черной, трубящей улицы. Световая реклама мюзик-холла взбегала по ступеням вертикально расположенных букв, они погасали разом, и снова свет карабкался вверх: какое вавилонское слово достигло бы до небес… сборное название триллиона тонов: бриллиантоволуннолилитовосизолазоревогрозносапфиристосинелилово, и так далее – сколько еще! Может быть, попробовать позвонить? Всего гривенник в кармане, и надо решить: позвонить – все равно значило бы лишить себя трамвая, но позвонить впустую, т.е. не попасть на самое Зину (звать ее через мать не допускалось кодексом), и вернуться пешком, было бы чересчур обидно. Рискну. Он вошел в пивную, позвонил, и все кончилось очень быстро: получил неправильный номер, попав как раз туда, куда постоянно пытался попасть анонимный русский, постоянно попадавший к Щеголевым. Что ж, – пешедралом, как сказал бы Борис Иванович.
На следующем углу автоматически заработал при его приближении кукольный механизм проституток, всегда стороживших там. Одна даже изобразила даму, замешкавшуюся у витрины, и было грустно думать, что эти розовые корсеты на золотых болванках она знает наизусть, наизусть… «Дусенька», – сказала другая с вопросительным смешком. Ночь была теплая, с пылью звезд. Он шел скорым шагом, и обнаженной голове было как-то дурманно легко от ночного воздуха, – и, когда дальше он проходил садами, наплывали привидения сиреней, темнота зелени, чудные голые запахи, стлавшиеся по газону.
Ему было жарко, горел лоб, когда он наконец, тихо защелкнув за собой дверь, очутился в темной прихожей. Верхняя, тусклостеклянная, часть Зининой двери походила на озаренное море: она должно быть читала в постели, – и, пока Федор Константинович стоял и смотрел на это таинственное стекло, она кашлянула, шуркнула чем-то, и – свет потух. Какая нелепая пытка. Войти, войти… Кто бы узнал? Люди, как Щеголевы, спят бесчувственным, простонародным, стопроцентным сном. Зинина щепетильность: ни за что не отопрет на звон ногтя. Но она знает, что я стою в темной передней и задыхаюсь. Эта запретная комната стала за последние месяцы болезнью, обузой, частью его самого, но раздутой и опечатанной: пневматораксом ночи.
Он постоял – и на носках пробрался к себе. В общем – французские чувства. Фома Мур. Спать, спать – тяжесть весны совершенно бездарна. Взять себя в руки: монашеский каламбур. Что дальше? Чего мы, собственно, ждем? Все равно, лучшей жены не найду. Но нужна ли мне жена вообще? «Убери лиру, мне негде повернуться…» Нет, она этого никогда не скажет, – в том то и штука.
А через несколько дней, просто и даже глуповато, наметилось разрешение задачи, казавшейся столь сложной, что невольно спрашивалось: нет ли в ее построении ошибки? Борис Иванович, у которого за последние годы дела шли все хуже, весьма неожиданно получил от берлинской фирмы солиднейшее представительство в Копенгагене. Через два месяца, к первому июля, надо было переселяться туда, по крайней мере на год, а может быть и навсегда, если дело пойдет успешно. Марианне Николаевне, почему-то любившей Берлин (насиженное место, прекрасные санитарные условия, – сама-то она была грязнющая), уезжать было грустно, но когда она думала об усовершенствованиях быта, ожидавших ее, грусть рассеивалась. Таким образом было решено, что с июля Зина останется одна в Берлине, продолжая служить у Траума, покамест Щеголев «не подыщет ей службы» в Копенгагене, куда она и приедет «по первому вызову» (т.е. это Щеголевы так думали, – Зина решила совсем, совсем иначе). Оставалось урегулировать вопрос квартиры. Продавать ее Щеголевым не хотелось, так что они стали искать, кому бы ее сдать. Нашли. Какой-то молодой немец с большим коммерческим будущим, в сопровождении невесты, – простоватой, ненакрашенной, хозяйственно-коренастой девицы в зеленом пальто, осмотрел квартиру – столовую, спальни, кухню, Федора Константиновича в постели, – и остался доволен. Однако, квартиру он брал только с первого августа, так что еще в течение месяца после отъезда Щеголевых Зина и жилец могли в ней оставаться. Они считали дни: полсотни, сорок девять, тридцать, двадцать пять, – каждая из этих цифр имела свое лицо: улей, сорока на дереве, силуэт рыцаря, молодой человек. Их вечерние встречи вышли из берегов первоначальной улицы (фонарь, липа, забор) еще весной, а теперь расширяющимися кругами беспокойное блуждание уводило их в далекие и никогда не повторявшиеся углы города. То это был мост над каналом, то трельяжный боскет в парке, за которым пробегали огни, то немощеная улица вдоль туманных пустынь, где стояли темные фургоны, то какие-то странные аркады, которых днем было не отыскать. Изменения навыков перед миграцией, волнение, томная боль в плечах.
Газеты определили молодое еще лето как исключительно жаркое, и, действительно, – это было длинное многоточие прекрасных дней, прерываемое изредка междометием грозы. В то время, как Зина изнемогала от зловонной жары в конторе (пропотевший под мышками пиджак Хамеке один чего стоил… а топленые шеи машинисток… а липкая чернота угольной бумаги!), Федор Константинович с раннего утра уходил на весь день в Груневальд, забросив уроки и стараясь не думать о давно просроченном платеже за комнату. Никогда прежде он не вставал в семь утра, это бы казалось чудовищным, – но теперь при новом свете жизни (в котором как-то смешались возмужание дара, предчувствие новых трудов и близость полного счастья с Зиной) он испытывал прямое наслаждение от быстроты и легкости этих ранних вставаний, от вспышки движения, от идеальной простоты трехсекундного одевания: рубашка, штаны и тапки на босу ногу, – после чего он забирал под мышку плед, свернув в него купальные трусики, совал в карман на ходу апельсин, бутерброд, и вот уже сбегал по лестнице.
Отвернутый половик держал дверь в широко отворенном положении, покамест швейцар энергично выбивал пыльный мат о ствол невинной липы: чем я заслужила битье? Асфальт еще был в синей тени от домов. На панели блестела первая свежая собачья куча. Вот из соседних ворот осторожно выехал и повернул по пустой улице черный погребальный автомобиль, стоявший вчера у починочной мастерской, и в нем, за стеклом, среди белых искусственных роз, лежал на месте гроба велосипед: чей? почему? Молочная была уже открыта, но еще спал ленивый табачник. Солнце играло на разнообразных предметах по правой части улицы, выбирая как сорока маленькие блестящие вещи; а в конце, где шел поперек широкий лог железной дороги, вдруг появилось с правой стороны моста разорвавшееся о его железные ребра облако паровозного дыма, тотчас забелелось опять с другой и прерывисто побежало в просветах между деревьями. Проходя затем по этому мосту, Федор Константинович, как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов, их вольной и разнообразной природой: заросли акаций и лозняка, дикая трава, пчелы, бабочки, – все это уединенно и беспечно жило в резком соседстве угольной сыпи, блестевшей внизу, промеж пяти потоков рельсов, и в блаженном отчуждении от городских кулис наверху, от облупившихся стен старых домов, гревших на утреннем солнце татуированные спины. За мостом, около скверика, двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочного автомата и вдруг разыгравшись, на цыпочках, один за другим, один подражая жестам другого, из-за жасмина подкрались к третьему, с закрытыми глазами, кротко и кратко, перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком пощекотать ему нос. Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня – и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства «Как быть Счастливым»? Или глубже, дотошнее: понять, что скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным, зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть! И хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований: 10.000 дней – от Неизвестного.