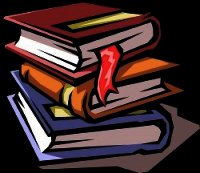В круге первом (т.2) - Солженицын Александр Исаевич (книга жизни .TXT) 📗
Из густой тьмы Герасимович отвечал точными нужными словами, не вставляя сорных, как пишутся хорошие книги, как бывает, когда обдумано прежде, чем сказано.
— Мы изголодались по свободе, и нам кажется: нужна безграничная свобода. А свобода нужна ограниченная, иначе не будет слаженного общества. Только не в тех отношениях ограниченная, как зажимают нас. И — честно предупредить заранее, не обманывать. Нам демократия кажется солнцем незаходящим. А что такое демократия? — угождение грубому большинству. Угождение большинству означает: равнение на посредственность, равнение по низшему уровню, отсечение самых тонких высоких стеблей. Сто или тысяча остолопов своим голосованием указывают путь светлой голове.
— Хм-м, — недоуменно мычал Нержин. — Это для меня ново… Это я — не понимаю… не знаю… Думать надо… Я привык — демократия… А что же вместо демократии?
— Справедливое неравенство! Неравенство, основанное на истинных дарованиях, природных и развитых. Хотите — авторитарное государство, хотите
— власть духовной элиты. Власть самоотверженных, совершенно бескорыстных и светоносных людей.
— Батюшки! Да это в идеале бы — пожалуйста. Но как эта элита отберётся? И, главное, как остальных убедить, что это — та самая элита? Ведь ум на лбу не написан, честность огнём не светится… Это нам и про социализм обещали, что только в ангельских одеяниях будут руководить, а — какие хари вылезли?.. Тут мно-ого вопросов… А — с партиями как? Вернее: как бы совсем без партий — и старого типа и, упаси Господь, Нового Типа? Человечество ждёт пророка, кто б научил, как вообще без партий жить! Всякая партийность — тоже ведь строжка под большинство, под дисциплину, говори, что не думаешь. Всякая партия корёжит и личность и справедливость. Лидер оппозиции критикует правительство не потому что оно действительно ошиблось, а потому что — зачем тогда оппозиция?
— Ну вот, вы сами идёте от демократии к моей системе.
— Ещё не иду! Это — немножко… Насчёт авторитарности? Конечно, нужен авторитет в государстве, но какой? Этический! Не власть на штыках, а чтоб — любили и уважали. Чтоб сказал: соотечественники, не надо, это дурно! — и все бы сразу прониклись: верно ведь, плохо! отвергнем! не будем! Где вы такое возьмёте?.. А то говорится «авторитарность», а вылупляется — тоталитарность. По мне бы, так что-нибудь швейцарское, помните у Герцена? Тем сильнее власть, чем ниже: самая большая — сельский сход, самый бесправный человек в государстве — президент… Ну, да это смеюсь… Вообще не рано ли мы с вами занялись? Разумное устройство! Разумней бы толковать — как из безразумного выбраться? Мы и этого не умеем, хоть и ближе.
— Это и есть главный предмет нашей беседы, — раздался спокойный голос из темноты. И так просто, будто говорилось о замене перегоревшей радиолампы в схеме:
— Я думаю, что нам, русским техническим интеллигентам, пришло время сменить в России образ правления.
Нержин вздрогнул. Впрочем, не от недоверия: он ещё по наружности чувствовал к Герасимовичу родственность, хотя разговориться им не приходилось до сих пор.
Тихий ровный голос из темноты говорил сдержанно и чуть торжественно, от чего Нержин ощутил перебеги ознобца вдоль хребта.
— Увы, самопроизвольная революция в нашей стране невозможна. Даже в прежней России, где была почти невозбранная свобода разлагать народ, понадобилось три года раскачивать войной — да какой! А у нас анекдот за чайным столом стоит головы, какая ж революция?
— Только не «увы»! — откликнулся Нержин. — Ну её к чёрту, революцию: элиту же вашу первую и перережут. Всё образованное и прекрасное выбьют, всё доброе разорят.
— Хорошо, не «увы». Но от этого многие из нас стали полагать надежды на помощь извне. Мне кажется это глубокой и вредной ошибкой. В «Интернационале» не так глупо сказано: «Никто не даст нам избавленья! добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой!» Надо понять, что чем состоятельней и привольней живётся на Западе, тем меньше западному человеку хочется воевать за тех дураков, которые дали сесть себе на шею. И они правы, они не открывали своих ворот бандитам. Мы заслужили свой режим и своих вождей, нам и расхлёбывать.
— Дождутся и они.
— Конечно, дождутся. В благополучии есть губящая сила. Чтобы продлить его на год, на день — человек жертвует не только всем чужим, но всем святым, но даже простым благоразумием. Так они вскормили Гитлера, так они вскормили Сталина, отдавали им по пол-Европы, теперь — Китай. Охотно отдадут Турцию, если этим хоть на неделю отсрочат всеобщую мобилизацию у себя. Они — конечно погибнут. Но мы — раньше.
— Раньше.
— В том беда, что надежда на американцев освобождает нашу совесть и расслабляет нашу волю: мы получаем право не бороться, подчиняться, жить по течению и постепенно вырождаться. Я не согласен, будто наш народ с годами в чём-то там прозревает, что-то в нём назревает… Говорят: целый народ нельзя подавлять без конца. Ложь! Можно! Мы же видим, как наш народ опустошился, одичал, и снизошло на него равнодушие уже не только к судьбам страны, уже не только к судьбе соседа, но даже к собственной судьбе и судьбе детей. Равнодушие, последняя спасительная реакция организма, стала нашей определяющей чертой. Оттого и популярность водки — невиданная даже по русским масштабам. Это — страшное равнодушие, когда человек видит свою жизнь не надколотой, не с отломанным уголком, а так безнадёжно раздробленной, так вдоль и поперёк изгаженной, что только ради алкогольного забвения ещё стоит оставаться жить. Вот если бы водку запретили — тотчас бы у нас вспыхнула революция. Но беря сорок четыре рубля за литр, обходящийся десять копеек, коммунистический Шейлок не соблазнится сухим законом.
Нержин не отзывался и не шевелился. Герасимовичу было чуть видимо его лицо в слабом неясном отсвете от фонарей зоны и потом, наверно, от потолка. Совсем не зная этого человека, решился Илларион выговорить ему такое, чего и друзья закадычные шёпотом на ухо не осмеливались в этой стране.
— Испортить народ — довольно было тридцати лет. Исправить его — удастся ли за триста? Поэтому надо спешить. Ввиду несбыточности всенародной революции и вредности надежд на помощь извне, выход остаётся один: обыкновеннейший дворцовый переворот. Как говорил Ленин: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернём Россию! Они сбили организацию — и перевернули Россию!
— О, не дай Бог!
— Я думаю, нет затруднений создать подобную организацию при нашем арестантском знании людей и умении со взгляда отметать предателей — вот как мы сейчас друг Другу доверяем, с первого разговора. Нужно всего от трёх до пяти тысяч отважных, инициативных и умеющих владеть оружием людей, плюс — кому-нибудь из технических интеллигентов…
— Которые атомную бомбу делают?
— … установить связь с военными верхами…
— То есть, со шкурами барабанными!
— … чтоб обеспечить их благожелательный нейтралитет. Да и убрать-то надо только: Сталина, Молотова, Берию, ещё нескольких человек. И тут же по радио объявить, что вся высшая, средняя и низшая прослойка остаётся на местах.
— Остаётся?! И это — ваша элита?..
— Пока! Пока. В этом особенность тоталитарных стран: трудно в них переворот совершить, но управлять после переворота ничего не стоит. Макиавелли говорил, что, согнав султана, можно завтра во всех мечетях славить Христа.
— Ой, не прошибитесь! Ещё неизвестно, кто кого ведёт: султан ли — их, или они — его, только сами не сознают. И потом: этот нейтралитет генерал-кабанов, которые целые дивизии толпами гнали на минные поля, чтоб только самих себя сберечь от штрафняка? Да они в клочья разорвут всякого за свой свинарник!.. И потом же — Сталин от вас уйдёт подземным ходом!.. И потом ваших инициативных пять тысяч, если не возьмут сексотами, так — пулемётами, из секретов… И потом, — волновался Нержин, — пяти тысяч таких, как вы — в России нет! И потом — только в тюрьме, а не на семейной воле, мужчина так свободен в мыслях, не связан в поступках и готов к жертвам! — а из тюрьмы-то как раз ничего и не сделаешь!.. Вы хотели, чтоб я искал недочётов в вашем проекте? Да он из одних недочётов и состоит!! Это — урок нашему физико-математическому надмению: что общественная деятельность — тоже специальность, да какая! Бесселевой функцией её не опишешь! Но даже не в этом! даже не в этом! — он уже слишком громко говорил для чёрной тихой лестницы. — Вы имели несчастье искать советчика во мне! — а я вообще не верю, что на Земле можно устроить что-нибудь доброе и прочное. Как же я возьмусь советовать, если я сам не выдеру ног из сомнений?