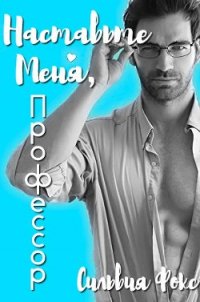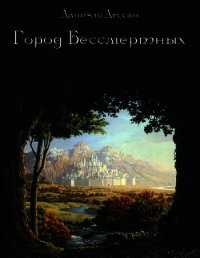Живи с молнией - Уилсон Митчел (полная версия книги txt) 📗
Целый месяц после увольнения Траскера Эрик оттягивал неизбежный разговор с Риганом и наконец не выдержал. Это был месяц сплошных разочарований и все возрастающей ярости против остальных факультетских преподавателей, которые были явно напуганы увольнением двух ученых. Все инстинктивно понимали, что теперь все сводится к одному: прав ли был Траскер, протестуя против первого увольнения. По меньшей мере треть тех, кто раньше охотно соглашался подписаться под петицией попечительскому совету, теперь просила не рассчитывать на их подпись. На этих малодушных ополчились те, кого словно пробудило ничем не оправданное увольнение двух ученых, хотя раньше они не выказывали к этому делу никакого интереса. Но таких была лишь горсточка, ренегатов же – подавляющее большинство. Тон отговорок действовал на Эрика угнетающе, и его больше всего бесило заявление: «Ведь я должен думать о своей семье». А как же семья Траскера? – возмущался он про себя. А Джоди и Сабина?
Каждый раз, глядя на уже заколоченный дом напротив, Эрик сжимал кулаки от гнева. Траскер временно устроился в Мичиганском университете на должность лаборанта с жалованьем вдвое меньшим, чем здесь. Эрик отлично знал, что Мичиганский университет ничего другого не мог ему предложить – прежнее место Траскера было давно занято.
К концу месяца Эрик понял, что сражение его проиграно. Он уже не мог продолжать работу над предложенным Мэри экспериментом. Если ему случалось входить в заброшенную лабораторию, он отводил глаза, чтобы не видеть запыленных частей прибора, стоявших, как могильные памятники. Он потерял всякий вкус к работе. Ему было стыдно за свою внутреннюю пассивность, и в то же время его глубоко возмущал этот мир, для которого научно-исследовательская работа не имела никакой ценности. Для Эрика работа означала жизнь, но воля его была парализована, внешние условия связывали его по рукам и ногам, и все это превратило его в желчного, озлобленного человека, изливающего свое раздражение на окружающих. И после каждой вспышки он терзался раскаянием, сознавая, что никакими извинениями не загладишь обиды.
Наконец Эрик не мог уже больше найти предлога, чтобы откладывать встречу с Риганом. Между ними состоялся короткий разговор, совсем не такой, какого ожидал Эрик, но имевший те же последствия. Риган поставил ему условие, которое сделало для него дальнейшее пребывание в университете абсолютно невозможным.
Разговор с самого начала принял такой неожиданный и странный оборот, что Эрик, выйдя из здания физического факультета безработным, совершенно не понимал, как это случилось, и ощущал какой-то дурман в голове. Он был взвинчен до предела, точно Риган непрерывно держал его под электрическим током; но, несмотря на отвращение, обиду и угрызения совести, в нем назрело твердое решение. Пока он шел по улицам, окаймлявшим Южный холм, то солнечным, то тенистым, в голове его складывался определенный план. Маленькие аккуратные домики уже не имели больше отношения к его жизни; он вдруг стал посторонним, чужим в этом городе, он стал безработным.
В порыве самоунижения он стал размышлять о своих внутренних возможностях, о том, что он в сущности за человек и как он пришел к своему теперешнему положению. Возникавшие в его памяти радостные и безмятежные картины прошлого сейчас ему только мешали. Как-то утром, наблюдая за играющим Джоди, Эрик вдруг понял, что воспоминания утратили для него всякий реальный смысл: точно какая-то часть дома, где он жил, постепенно обваливалась и превращалась в прах, а он этого не замечал, пока мох, сорная трава и дикие цветы, выросшие на развалинах, не привлекли его внимания. Эрик стал сомневаться в своей памяти, поняв, что большая часть прошлых переживаний зависела от запахов, ароматов, приятных или неприятных ощущений.
Когда-то запахи для него значили не меньше, чем зрительные восприятия, и теперь, наблюдая за Джоди, он вспоминал, как волновали его в детстве приятные или неприятные запахи. Он вспомнил, как по-разному пахла одежда его отца: теплая сырость шерстяной куртки, промокшей под весенним дождем, густой запах табака, когда он взбирался на колени к отцу, любопытствуя, очень ли колются его усы; тогда же он обнаружил, что табачный запах и ощущение колючих волос могут действовать на него по-разному, но ни то, ни другое никогда не казалось ему неприятным.
Он помнил еще теплые запахи кухни, аромат ветерка, трепавшего передник матери, вывешенный на веревке для просушки, и мучительное ощущение, когда мать проводила по его лицу рукой, пахнущей луком.
Он видел, как Джоди низко наклонял голову над картинками, отпечатанными на линолеуме, и медленно водил носиком; Эрик сразу догадался, в чем дело: мальчика интересовало, так же ли пахнет красное, как синее или белое, или по-другому. Неторопливо шагая по улицам и перебирая в уме свои планы, как монеты в кармане, Эрик недоумевал, почему сейчас ему лезет в голову прошлое, которое он почти совсем забыл, да и то, что он помнил, – всего-навсего впечатления, воспринятые ребенком. Что могло вызвать в нем тот постыдный порыв в кабинете Ригана? Он длился только какую-то долю секунды. Но воспоминание об этой мгновенной вспышке запечатлелось в нем навсегда, как зигзаг молнии на фотопленке. Позорно ли это или только естественно? Где же найти объяснение? Быть может, разгадку следует искать где-то на дне памяти? Но в таком случае это объяснение уже не годится, оно устарело и совершенно бесполезно. Ничего не остается делать, решил он, как идти вперед и вперед. Что бы с ним сейчас ни происходило, прошлое умерло навсегда.
«Вот и все, – думал он. – Кто я такой и на что способен – я не знаю и могу только догадываться».
Но в то же время он уже не только догадался, но и решил, как быть дальше. Теперь его занимал другой вопрос: не пойти ли прямо на почту и не отправить ли телеграмму сейчас же? Нет, он слишком долго был наедине со своими мыслями, ему сейчас очень не хватало Сабины. И Эрик повернул домой.
Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел в дом, была книжка Джоди, валявшаяся на полу. Эрик рассеянно поднял ее и передал Сабине. Она взяла книжку, устремив на него печальный вопросительный взгляд.
– Я безработный. – Он осторожно тронул ее за плечо. – Ты не бойся, Сабина. Как-нибудь проживем.
Он поцеловал ее в лоб и пошел к телефону.
– Примите, пожалуйста, телеграмму, – сказал он, вызвав телеграф. – Мистеру Томасу Максуэлу, город Спокэн, штат Вашингтон. Текст следующий: «Окончательно решил переключиться на работу в промышленности. Можно ли рассчитывать на нью-йоркскую вакансию? Могу выехать немедленно». – Телеграфистка повторила текст телеграммы, и он сказал ей свое имя.
Повесив трубку, Эрик обернулся и встретился взглядом с Сабиной. Вот он сделал наконец решительный шаг, но озлобление и растерянность, толкнувшие его на это, все-таки не проходили.
– Значит, ты говорил с Риганом, – сказала она. Это был не вопрос, а спокойное утверждение, но глаза ее глядели тревожно.
«Как же ей не тревожиться, – подумал Эрик. – Куда мы теперь денемся»?
– Конечно, – сказал он. – Черт возьми, Сабина, у меня уже не было выбора. Он меня не увольнял, я сам ушел! Иначе я не мог. Легко было Траскеру говорить: «Подождите, пока я найду вам место», но после сегодняшнего разговора я уже не могу ждать. Может, ты считаешь, что мне не следует поступать на службу в эту нью-йоркскую фирму – конечно, если там еще есть вакансия, – так я откажусь. Я что-то ничего уже не понимаю.
– Я считаю? Эрик, ведь это твоя работа и твоя жизнь. Ты сам должен знать, чего ты хочешь.
– Я хочу только уехать отсюда поскорее, – выпалил он. – Если это и есть жизнь ученого, так черт с ней! С самого начала попадаешь под гипноз лживого утверждения, будто нет ничего прекраснее и благороднее чисто научной, исследовательской работы. Ты, мол, принадлежишь к «передовому человечеству». Пусть другие занимаются разными глупостями, но ты работаешь на вечность. А на деле получается, что ты просто паршивый маленький учителишка и все на тебя плюют. Лаборатории существуют только для приманки. Ты должен быть благодарен за то, что тебе дают несчастные сорок долларов в неделю, хоть этого и не хватит, чтоб послать детей в колледж, когда придет время. Дело даже не в Ригане, мне и без него все это опротивело. Глядя на здешних людей, которые вовсе не являются патологическими уродами, я чувствую, что больше не могу! Одна мысль, что я рискую превратиться в такого ручного кролика, приводит меня в ужас!