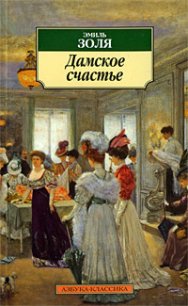Его превосходительство Эжен Ругон - Золя Эмиль (книга регистрации txt) 📗
— Да, да — обыска, так и стоит в депеше, — оказал де Плюгерн в заключение. — И вот на глазах у всех комиссар и двое жандармов перевернули вверх дном монастырь. Они провели там пять часов. Жандармы пожелали обыскать все… Вообразите, они совали свой нос в соломенные тюфяки монахинь…
— В тюфяки монахинь! Какая подлость! — воскликнула возмущенная госпожа Бушар.
— Для этого надо совсем отказаться от религии, — заявил полковник.
— Что вы хотите, — вздохнула в свою очередь госпожа Коррер, — Ругон ведь никогда не ходил в церковь… Я часто пыталась примирить его с богом, но все понапрасну!
Бушар и Бежуэн покачивали головами, словно им сообщили о таком общественном бедствии, которое заставило их усомниться в рассудке всего человечества.
Кан спросил, решительно поглаживая бороду:
— У монахинь, разумеется, ничего не нашли?
— Ровным счетом ничего, — ответил де Плютерн. Затем прибавил скороговоркой:
— Нашли, кажется, серебряную кастрюльку, два бокала, кувшинчик для масла — пустяковые подарки, которые покойник, человек очень набожный, оставил монахиням в знак благодарности за их добрые попечения во время его длительной болезни.
— Да, да, само собой разумеется, — вздохнули все остальные.
Сенатор счел вопрос исчерпанным и начал говорить с расстановкой, прищелкивая пальцами в конце каждой фразы:
— Но не в этом дело! Дело в том уважении, которое надлежит оказывать монастырю, одному из святых пристанищ, где укрываются добродетели, изгнанные из нашего нечестивого общества. Как можно требовать религиозности от народа, если на религию нападают высокопоставленные лица? Ругон совершил подлинное кощунство, и он должен за него ответить!.. Порядочное общество Фавроля возмущено. Монсиньор Рошар, уважаемый прелат, неизменно выказывавший этим монахиням свое особое расположение, немедленно прибыл в Париж искать правосудия. С другой стороны, сегодня в Сенате все были очень раздражены. После сообщенных мною событий говорили о том, что следовало бы внести запрос в Палате. Наконец, даже императрица…
Все напряженно прислушались.
— Да, императрица узнала об этом прискорбном факте от мадам Льоренц, услыхавшей о нем от нашего друга Ла Рукета, которому все рассказал я… Ее величество воскликнула: «Господин Ругон отныне не может больше говорить от лица Франции».
— Прекрасно! — сказали все.
В этот четверг у Клоринды до часу ночи толковали только об этом. Сама она не раскрывала рта. При первых словах де Плюгерна она откинулась на своей софе, побледнев и закусив губы. Потом быстро трижды перекрестилась, — так, чтобы никто не видел, — словно благодаря небо за ниспослание милости, о которой она долго просила. Затем при рассказе об обыске она делала жесты исступленной святоши. Лицо ее разгорелось. Устремив глаза в пространство, она погрузилась в глубокое раздумье.
Пока все были заняты разговором, де Плюгерн подошел к ней, сунул руку за вырез ее платья и игриво ущипнул ей грудь. И скептически посмеиваясь, развязным тоном вельможи, привыкшего ко всякому обществу, он шепнул молодой женщине на ухо:
— Если он замахнулся на господа бога — ему каюк!
XIII
Всю следующую неделю Ругон замечал, что ропот вокруг него возрастает. Ему простили бы, конечно, и злоупотребление властью, и алчность его клики, и удушение страны. Но переворошить с помощью жандармов тюфяки монахинь — было уже чудовищным преступлением, и придворные дамы делали вид, что при появлении Ругона они содрогаются. Монсиньор Рошар поднял страшный шум во всех углах чиновного мира; говорил», что он ходил даже к императрице. Впрочем, кучка ловких людей, видимо, раздувала скандал: словно по какому-то приказу, в разных концах возникали одни и те же слухи, повторяемые с удивительным единодушием. Вначале среди этих яростных нападок Ругон сохранял спокойствие. Он улыбался, пожимал своими могучими плечами и называл все происшедшее вздором… Он даже пошучивал. На вечере у министра юстиции у него вырвались слова: «Я ведь не рассказал, что под одним тюфяком нашли священника». Такие слова были верхом нечестия; они облетели город, довершили обиду и вызвали новый взрыв гнева. Но мало-помалу Ругон стал раздражаться. В конце концов это ему надоело! Монахини эти, конечно, воровки, раз у них оказались серебряные кастрюли и бокалы. Он не желал отступаться и все больше впутывался в дело, грозил притянуть к суду и вывести на чистую воду все фаврольское духовенство.
Однажды утром ему доложили, что его хотят видеть Шарбоннели. Он очень удивился, он и не знал, что они в Париже. Увидев их, он закричал, что все идет отлично: накануне он отправил новое распоряжение префекту о том, чтобы прокурорский надзор начал судебное дело. Но тут старик Шарбониель впал в горестное изумление, а госпожа Шарбоннель воскликнула:
— Нет, нет, это не то… Вы заходите чересчур далеко, господин Ругон. Вы нас не так поняли.
И оба рассыпались в похвалах монахиням общины св. семейства. Это, несомненно, святые женщины. Правда, они сами подняли было дело против монастыря, но, разумеется, не думали обвинять монахинь в постыдных действиях. Кроме того, в Фавроле у них открылись глаза, ибо почтенные монахини пользуются там уважением лучшего общества.
— Вы очень повредите нам, господин Ругон, — сказала в заключение госпожа Шарбоннель, — если будете так злобствовать против религии. Мы умоляем вас успокоиться, мы за тем и приехали. Ведь там, на местах, что они знают? Люди думают, будто мы вас подбиваем, будто во всем виноваты мы, и поэтому готовы забросать нас камнями. Мы поднесли монастырю хороший подарок — распятие из слоновой кости, висевшее над кроватью нашего бедного кузена.
— Мы вас, во всяком случае, предупредили, — добавил Шарбоннель, — а там дело ваше… Мы тут ни при чем.
Ругон не перебивал. Они, по-видимому, были очень недовольны и чуть ли не кричали на него. По спине у Ругона пробежал холодом. Он смотрел на них, охваченный внезапной усталостью, как будто у него отняли частицу его силы. Впрочем, он не возражал и, расставаясь с ними, обещал не предпринимать ничего. И действительно он замял дело.
Только на днях разразился скандал, в котором косвенно оказалось замешанным его имя. В Кулонже разыгралась ужасная драма. Неуступчивый Дюпуаза, вознамерившийся, по выражению Жилькена, сесть на шею отцу, однажды утром снова постучался в дверь скупого старика. Через пять минут соседи услышали в доме ружейные выстрелы и страшные вопли. Бросившись туда, они нашли старика с расколотым черепом внизу, у лестницы. Посреди сеней лежали два разряженных ружья. Дюпуаза, бледный, как мертвец, рассказал, что отец, увидев, что он хочет подняться по лестнице, закричал, как безумный: «Воры! воры!» — и дважды выстрелил в него почти в упор. Дюпуаза показывал даже простреленную шляпу. Затем — по его же словам — отец грохнулся навзничь и разбил голову о край нижней ступеньки. Эта трагическая смерть, таинственная драма без свидетелей вызвала во всем департаменте самые неприятные толки. Доктора констатировали смерть от апоплексического удара. Однако враги префекта утверждали, будто он сам толкнул старика. Жестокость его управления с каждым днем увеличивала число врагов. Префект подверг Ньор настоящему террору. Бледный, стиснув зубы и сжав худые кулачки, Дюпуаза держал себя вполне независимо и, проходя по городу, одним взглядом своих серых глаз прекращал болтовню у ворот.
Но с ним приключилась другая беда — ему пришлось убрать Жилькена, запутавшегося в скверную историю. Жилькен взимал плату в сто франков за освобождение молодых крестьян от военной службы. Все, что можно было для него сделать, это спасти его от исправительной тюрьмы и затем отступиться от него. Но так как Дюпуаза во всем неизменно опирался на Ругона, то каждая его катастрофа оказывалась на ответственности министра. По-видимому, Дюпуаза что-то пронюхал о возможной опале Ругана и поэтому прибыл в Париж, не предупредив его. Чувствуя, что почва под ним колеблется, что расшатанная им власть трещит, Дюпуаза стал искать какую-нибудь сильную руку, за которую можно было бы уцепиться. Он намеревался исхлопотать для себя перевод в другую префектуру, чтобы избежать таким образом верной отставки. После смерти отца и мошеннических проделок Жилькена оставаться в Ньоре стало невозможно.