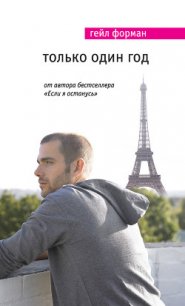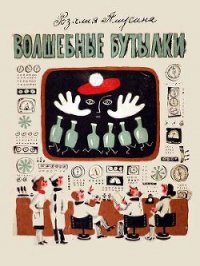Снеговик - Фарфель Нина Михайловна (читаем книги .txt) 📗
А я сооружу себе костюм султана при помощи моей шубы и какой-нибудь тряпки, свернутой в виде чалмы. Ну, помогите же мне, Христиан! Ведь вы художник! Нет художника, который не сумел бы навертеть чалму!
Христиан был совершенно трезв, поэтому его несколько огорчило, что Гёфле взломал шкаф.
— Людей моего сословия, — сказал он, — постоянно обвиняют в кражах, и обычно не без повода. Вы увидите, что у меня из-за этого шкафа будут неприятности.
— Ерунда! Я же здесь! — воскликнул Гёфле. — Я все беру на себя. Да ну же, Христиан, надевайте платье! Попробуйте по крайней мере.
— Дорогой господин Гёфле, — сказал Христиан, — позвольте мне сперва хоть что-нибудь проглотить. Я умираю от голода.
— Правильно! Перекусите! Да поскорее!
— И потом, сам не знаю почему, — продолжал Христиан, принимаясь за еду, стоя и поглядывая на разбросанные платья, — мне как-то противно ворошить эти старые вещи. Несчастной баронессе Хильде выпала такая злая участь! Знаете, ведь я сегодня еще более, чем прежде, уверился в моих подозрениях о том, какою смертью она умерла!
— К чертям! — воскликнул Гёфле. — У меня сейчас нет ни малейшего желания заново ворошить эти старые истории. Меня так и тянет куда-то бежать и веселиться напропалую. За дело, Христиан, за дело, и прочь печальные мысли! Наденьте-ка вот это роскошное платье в польском духе: оно великолепно! Лишь бы плечи пролезли, а остальное уж пойдет легче.
— Не думаю, — сказал Христиан, запуская руку в карман платья. — Взгляните, какая у нее была маленькая рука, если она проходила в такой узкий разрез.
— Но ведь и ваша прошла, как я вижу.
— Да, но зато я уже не могу вытащить ее обратно… Стойте, там какая-то записка!
— Ну-ка, ну-ка! — вскричал адвокат. — Это, наверно, занятно!
— Нет, — промолвил Христиан, — не надо ее читать.
— Почему?
— Сам не знаю; мне это кажется кощунством.
— В таком случае я то и дело занимаюсь подобным кощунством, ведь в мои обязанности как раз входит рыться в тайнах семейных архивов.
С этими словами Гёфле выхватил из рук Христиана пожелтевший листок и прочитал следующее:
«Возлюбленная моя Хильда, я только что прибыл в Стокгольм и застал здесь графа Розенстейна. Стало быть, мне нет нужды скакать в Кальмар [82], и десятого числа сего месяца я отправлюсь в обратный путь; мне не терпится поскорее обнять и приголубить тебя, заботиться о тебе и мечтать с тобою о будущем счастье, коль скоро господь опять одарил наш союз своей милостью. Посылаю тебе письмо сие с нарочным, дабы ты не тревожилась обо мне, — путь мой не был чрезмерно труден. Однако мне все же повстречалось немало препятствий, и я радовался, что ты, в твоем положении, не поехала со мной. Ведь до самого Фалуна не довелось спешиться. Итак, моя любимая, до скорого свидания, пятнадцатого числа или самое позднее шестнадцатого. А с Розенстейном тяжбы не будет, все уладилось. Люблю тебя.
Твой Адельстан Вальдемора».
— Как это бесконечно грустно, господин Гёфле, — сказал Христиан адвокату, который молча укладывал платье на место, — найти такое письмо, дышащее любовью и семейным счастьем, среди одежд покойницы!
— Да, очень грустно! — ответил Гёфле, снимая очки и развязывая накрученную чалму… — И к тому же странно. Знаете, над этим стоит призадуматься… Ведь бедная баронесса заблуждалась, она не была беременна и сама впоследствии, добровольно признала свою ошибку. Стенсон как раз сегодня рассказал мне об этом. Он был при ней, когда она подписывала ту бумагу… Но посмотрим, каким числом помечено письмо.
Гёфле снова надел очки и прочитал: «Стокгольм, 5 марта 1746 года».
— Вот как! — продолжал он. — Это в точности сходится, если мне память не изменяет… Ну, все равно! Слишком темное это дело для человека, жаждущего веселья! Впрочем, письмо я сохраню. Как знать? Надо будет опять просмотреть бумаги, доставшиеся мне от отца… Что с вами, Христиан? Вы так и не смастерили себе костюма?
— При помощи этих тряпок, пропахших могилой? Дани за что! У меня дрожь пробегает по спине… Вы говорили нынче утром, что она была добродетельна, образованна, прекрасна — жемчужина Далекарлии! И умерла совсем молодой?
— Двадцати пяти или двадцати шести лет, примерно месяцев через десять после того, как это письмо было написано: ведь граф Адельстан был убит в марте 1746 года. Это, наверное, последние слова, обращенные им к жене, и потому-то она и хранила при себе дорогое ей письмо, возможно, до последнего своего дня, наступившего так скоро.
— Подумайте, как печальна ее судьба! — проговорил Христиан. — Быть молодой супругой, молодой матерью, внезапно стать бездетной вдовой… и пасть жертвой ненависти барона…
— О, это совсем не доказано! Но слышите, выстрел. Гонки начались, Христиан, а мы с вами тут рассуждаем о делах, давно позабытых всеми и, надо сознаться, совсем нас не касающихся… Если вам нынче взгрустнулось, друг мой, оставайтесь здесь, а я побегу, мне надо проветриться; довольно с меня размышлений на сегодня!
Христиан предпочел бы никуда не идти; но Гёфле находился в таком возбуждении, что Христиан боялся предоставить его самому себе.
— Вот что, — сказал он, — не станем переодеваться, А чтобы показаться на людях вместе и не быть узнанными, мы оба наденем маски — как я, так и вы. Вы будете Христианом Вальдо, ведь ваша одежда куда наряднее моей; а меня уже приняли сегодня за слугу, и мне остается только играть эту роль и дальше: я буду Пуффо!
— Отлично придумано! — воскликнул Гёфле. — Идем же! Да, кстати, свет гасить не стоит, не то господин Нильс, проснувшись, чего доброго, испугается; а чтобы он не проголодался, оставим ему крылышко цыпленка вот тут, под самым его носом.
— Малыш Нильс? Разве он здесь?
— Конечно! Я, как только пришел, первым делом перетащил его сюда из конюшни, раздел и уложил в постель. Он там в соломе промерз бы до костей, дрянной мальчишка!
— Пришел он в себя?
— Да, вполне; да еще выразил недовольство тем, что я посмел его потревожить, и ворчал, пока я его укладывал.
— Ну, а Пуффо куда делся? Я не застал его в конюшне, когда привел туда осла.
— Я тоже его не видел. Наверно, опохмеляется где-нибудь с Ульфилом. И на здоровье! Идем же, скоро полночь. Вы сумеете помочь мне запрячь коня? Увидите, мой славный Локи меня не посрамит!
— Но вас сразу узнают по коню и саням.
— Нет, сани у меня самые обычные; коня я купил как раз в здешних местах год тому назад, но мы наденем на него дорожную попону.
По предложению барона участники гонок, по команде майора Ларсона, должны были устремиться на противоположный конец озера, к так называемому хогару, расположенному примерно в полумиле от Стольборга и нового Замка; как мы уже говорили, оба замка, старый и новый, находились очень недалеко друг от друга, первый — на островке возле берега, второй — на самом берегу. Хогарами называют курганы, насыпанные, как полагают, над древними могилами скандинавских вождей. Такой курган имеет цилиндрическую форму, склоны его почти отвесны, а на плоской верхушке, по преданию, вершили суд эти варвары правители. Курганы такого рода встречаются и во Франции, но в Швеции их гораздо больше.
Хогар, служивший целью участникам состязания, являл собой в эту ночь поистине фантастическую картину. Он был увенчан тройным рядом смоляных факелов, и сквозь их багровый дым можно было разглядеть исполинское белое изваяние. Эту огромную статую за один день вылепили из снега крестьяне по приказу барона; недаром владелец замка, отлично знавший, каким прозвищем его наградили, насмешливо пообещал дамам, что на вершине кургана их ждет сюрприз в виде его собственного портрета. Эта грубо сработанная фигура удивительно сочеталась с окружавшей ее дикой местностью и напоминала тех большеголовых идолов с толстой, узловатой палицей в руке, что из века в век олицетворяют Тора [83] — скандинавского Юпитера, грозно вскинувшего молот над своим венценосным челом.
82
Кальмар — город в юго-восточной Швеции.
83
Тор — второе после Одина божество древних скандинавов. Изображался в виде великана с длинной рыжей бородой, в одной руке держащего скипетр, в другой — молот.