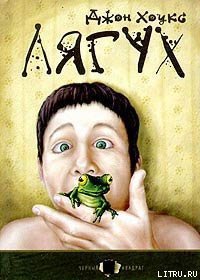Людоед - Хоукс Джон Твелв (мир бесплатных книг txt, fb2) 📗
— Опять? — говорила она у меня под рукой. — Вероятно, ты прав. Ты точно прав, вот… — Едва ли преткнулось с поворотом колеса, поддерживая легкий пыл. Никакое движенье под желтым шариком не могло осуществляться так долго, чтобы длиться до первой минуты после.
Сегодня вечером Ютта казалась прелестной, вот оперлась на подушки, колено покоится у моего бока, взгляд единожды проскальзывает по спящему Счетчику Населения, затем к двери в другую комнату, верх халата сбился и смялся у нее под талией, прелестно, но далеко от величия Мадам Снеж, которая выглядела очень старой. Ей никогда не удавалось сказать, когда я приду, но отыскала б меня она в тот же миг. Теперь она млела, пока я трогал ее предплечье плоскостью своей щеки.
Вчера она ушла на прогулку, вниз по крутой шаткой лестнице пансиона, серый платок на согбенных плечах, выводя с любовью и добротой дочь свою Сельваджу, та следовала позади. Она потянулась назад, чтобы длинная рука направила дитя в темноте, левой ногой толкнула настежь дверь, а снаружи обнаружили они, что городок частично уничтожен, холодное весеннее солнце прорезано насквозь грубым стальным плечом, холодные колеи грязи начинают оттаивать. В лице Ютты не было цвета под солнцем, мать и дочь шли той же медленной походкой, нащупывая себе путь вперед в том месте, какого не знали, и дитя время от времени дружелюбно заговаривало. Ютта запахнула платок потуже, постаралась, чтобы на черные туфли ее не попала грязь.
— На что были похожи захватчики? — спросила Сельваджа.
— Они были дурные люди, но надолго не задержались. — Ребенка защитили от их вида на той неделе, когда в городке останавливались американцы; теперь они заспешили прочь, к городам подальше, и в Шпицен-на-Дайн лишь изредка заезжал человек на мотоцикле. Седельные сумки у него были полны, а его пригожая машина властно ревела по неезженым дорогам. Но лицо его покрывали очки-консервы, и Сельваджа лишь видела, как он быстро, шумно несется вприпрыжку по улицам. — Незачем даже думать о них, — сказала Ютта — и смутно понадеялась, что дитя и не станет.
При свете солнца волосы у Ютты были не такими прелестными, на носу — булавочные глазки грязи, пятна на болтающемся платье расползлись, ноги крупны и все еще под заново подшитым развевающимся подолом. Лицо ее дочери сужалось до тонкого острия в подбородке, и казалось вероятным, что бюста у ребенка никогда не будет. Под узкой рыбьей костью груди, где он бы мог возникнуть, самостоятельно билось ее сердце, не затронутое видом горки или склизкой влажной глины. Толевые домики на вершине проседали с концов, самоцветы жестяных банок засоряли неопределимые дворы без газонов или кустов, и враждебные взоры следили за матерью и дочерью из-за поваленных столбов. Из-под руин вокруг двух стоячих стен подымалась густая неприятная вонь и плыла под-над узкой дорогой с промозглым ветерком.
— Tod[11], — произнесла мать себе под нос. Бок о бок пялились они с неровных серых откосов туда, где в блистающем свете раскинулись краснокирпичные останки учреждения.
— Что это? — спросила Сельваджа.
— Там раньше держали сумасшедших людей. — Заостренная головка кивнула.
Много, много лет раньше в тех же самых зданиях врачиха говорила с Баламиром:
— Как вас зовут?
— Вы мне скажете, какой сегодня день?
— Weiss nicht[12].
— Вы знаете, какой сейчас год?
— Вам известно, где вы?
— Weiss nicht.
— Вам здесь будет хорошо.
— Weiss nicht, weiss nicht!
Пока они спускались с горки, яркое солнце похолодело, ноги у них промокли, и они были очень рады вернуться к покою комнат.
Желтые стены мерцали, пока электрический шарик тускнел, поднимался, пригасал, но не гас, пока генератор чихал и продолжал бубнить далеко под нами в полуподвале Баламира. Под животом ее белая плоть надулась мягким курганом, затем растворилась в простынях, а ее пальцы при моей руке очерчивали шелковистые контуры предыдущей раны. Ум ее мог прозревать лишь до непосредственной заботы о ее сыне, никогда не бодрствуя в предчувствии послемрака либо чтоб в страхе подняться на свету; и покуда мысль о ребенке соскальзывала вниз и прекращалась, всякий миг впредь расчислялся деяньями, обведенными кругами в комнате. Она пристукнула мне по плечу, словно бы говоря: «Я встаю, но ты не беспокойся», — и сошла с оттоманки, верх ее халата раскачивался позади от талии. В лохань она плеснула холодной воды, тщательно вымылась и оставила воду успокаиваться. В другой комнате, куда подалась за огнем мне для сигареты, она сказала:
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})— Schlaf[13], — своей дочери у окна и вернулась с зажженной щепкой. Во сне Счетчик Населения услышал несколько скорбных нот рога, словно б эхо, в регистре пониже, тех горнов, что, бывало, прерывисто ревели средь чахлых деревьев на южной окраине городка. Раз, другой, затем херр Штинц поставил свой инструмент в угол и сел один впотьмах этажом ниже. В квартире во втором этаже было темно.
— Они сегодня танцуют, — сказал я, бумажка прилипла у меня к губам, — пойдем, у меня еще есть несколько часов.
— Tanzen?[14]
— Да. Пойдем, ненадолго.
Она оделась в голубое платье, что поблескивало в складочках, вступила в туфли вчерашней прогулки и вымылась еще раз. Галстук я не надевал, но застегнул серую рубашку до самого горла, протер глаза и, протянув руку, потряс Счетчика Населения за стопу. Коридор был совсем черен и сочился холодными сквозняками. Мы медленно перешли с пятого в четвертый, в третий, во второй, Счетчик Населения опирался обеими руками о перила.
— У Герцога, — произнесла, кивая, Ютта.
— А, у Герцога.
Маленькая девочка услышала, как далеко внизу под ее сторожевым постом у окна пронзительно хлопнула дверь.
— Что это там с танцами? — спросил Счетчик Населения, ладони плотно прижаты к ушам от холода, вздетые локти дергаются замысловатыми полуарками под его шаг. Мы быстро шли к горке, что выпирала в темноте гораздо выше.
Ночью учреждение скрюченно громоздилось ввысь и пласталось беспорядочной чередою оброненных террас и голых комнат, внезапно изогнутых стен и заложенных входов, вычесанное от действительности, удушенное от всякого порядка своею чрезмерной величиной. Шли мы в среднем темпе, нащупывая руки друг дружки, не опасаясь этой потерянной архитектуры, и звук наших собственных шагов не производил на нас впечатления. В сводчатых кухнях еды не было. Кабинеты и залы заседаний лишились карандашей, записей, кожаных подушек. Крупные заплаты белых стен испятнались расплывающимися утраченными узорами сочащейся воды, а внутренние двери были измазаны меловыми фрагментами оперативных сводок тогда еще встревоженных и сражавшихся Союзнических армий. Учреждение угрожало, оно громоздилось отвалом само на себе в хаотической дреме, и в раздельных комнатах крупные ванны — долгие, толстые края их окольцованы металлическими крючьями, что некогда держали пациентов в их холщовых колыбелях, — закоптились серым, наполнились падшими сегментами штукатурки с потолков. Странные, непреследуемые животные устроили теперь берлоги в углах спален, где некогда струился инсулин и производил исцеление. И вот здесь-то имел место бунт.
Каждый из нас, проходя через это освобожденное и одинокое святилище, мимо его ныне тихих комнат, слышал в нагих деревьях фрагменты узнаванья. Ибо некогда внушало оно трепет и вместе с тем было священным, вызвав в каждом из нас, безмолвных ходоков, в то или иное время сомненье в нашем же благополучии, а также сиюминутную оторопь от того, как им удавалось справляться со всеми теми пациентами. Некогда дни прерывались самим боем часов, и это место мы проходили умозрительно — новое и внушительное при каждом ударе. А вот ныне дни текли непрерывно, и тени от громадных поваленных крыльев расползались вокруг наших движущихся ног бесцветно и совсем безголосо. Затем, уносясь прочь сквозь путаницу, новую, неухоженную и рукотворную, возникал низкий дощатый пакгауз, чавканье чужих голосов. Он следовал по пятам, присев под собственными своими проблесками слабенького света, за небольшим заколоченным залом общинных собраний, затравленным тьмою окружающих построек.