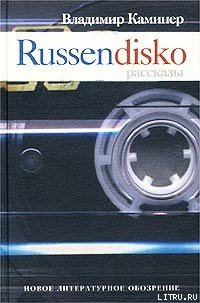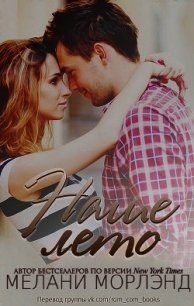Дар - Набоков Владимир Владимирович (полная версия книги TXT) 📗
Низкое, садящееся за крыши, солнце, как бы выпало из облаков, покрывавших свод (но уже совсем мягких и отрешенных, как волнистое их таяние на зеленоватом плафоне), и там, в узком просвете, небо было раскалено, а напротив, как медь, горело окно и металлические буквы. Длинная тень носильщика, катящая тень тачки, втянула эту тень в себя, но она опять острым углом выперла на повороте.
«Будем скучать без тебя, Зиночка, – сказала Марианна Николаевна, уже из вагона. – Но ты, во всяком случае, возьми отпуск в августе и приезжай к нам, – посмотрим, может быть и совсем останешься».
«Не думаю, – сказала Зина. – Ах да. Я сегодня дала тебе мои ключи. Не увези их, пожалуйста».
«Я, знаешь, их в передней оставила… А борины в столе… Ничего: Годунов тебя впустит», – добавила Марианна Николаевна примирительно.
«Так-то. Счастливо оставаться, – вращая глазами, сказал Борис Иванович, из-за жениного полного плеча. – Ах, Зинка, Зинка, – вот приедешь к нам, на велосипеде будешь кататься, молоко хлестать, – лафа!»
Поезд содрогнулся и вот пополз. Марианна Николаевна еще долго махала. Щеголев, как черепаха, втянул голову (а, сев, вероятно, крякнул).
Она вприпрыжку сбежала по ступеням, – сумка теперь свисала с пальцев, и от последнего солнечного луча бронзовый блеск пробежал у нее в зрачках, когда она подлетела к Федору Константиновичу. Они поцеловались так, словно она только что приехала издалека, после долгой разлуки.
«А теперь поедем ужинать, – сказала она, беря его под руку. – Ты, наверное, безумно голоден».
Он кивнул. Чем это объяснить? Откуда это странное смущение – вместо ликующей, говорливой свободы, которую я так, так предвкушал? Я словно отвык от нее или не могу с ней, прежней, примениться к этой свободе.
«Что с тобой? Почему ты окислился?» – заметливо спросила она после молчания (они шли к остановке автобуса).
«Грустно расстаться с Борисом Бодрым», – ответил он, стараясь хоть остротой разрешить стеснение чувств.
«А я думаю, что это вчерашнее безобразие», – усмехнулась Зина, – и вдруг он уловил в ее тоне какой-то приподнятый звон, по-своему отвечавший его собственному замешательству и тем самым подчеркивавший и усиливавший его.
«Глупости. Дождь был теплый. Я дивно себя чувствую».
Подкатил, сели. Федор Константинович заплатил из ладони за два билета. Зина сказала: «Жалованье я получаю только завтра, так что у меня сейчас всего две марки. Сколько у тебя?».
«Слабо. От твоих двухсот мне отчислилось три с полтиной, но из них больше половины уже ухнуло».
«На ужин-то у нас хватит», – сказала Зина.
«Ты совсем уверена, что тебе нравится идея ресторана? потому что мне – не очень».
«Ничего, примирись. Вообще теперь со здоровым домашним столом кончено. Я не умею делать даже яичницу. Надо будет подумать, как устроиться. А сейчас я знаю отличное место».
Несколько минут молчания. Уже зажигались фонари, витрины; от незрелого света улицы осунулись и поседели, а небо было светло, широко, в облачках, отороченных фламинговым пухом.
«Смотри, готовы фоточки».
Он их взял из ее холодных пальцев. Зина на улице, перед конторой, прямая и светлая, с тесно составленными ногами, и тень липового ствола поперек панели, как опущенный перед ней шлагбаум; Зина, боком сидящая на подоконнике с солнечным венцом вокруг головы; Зина за работой, плохо вышедшая, темнолицая, – зато на первом плане – царственная машинка, с блеском на рычажке каретки.
Она их засунула обратно в сумку, вынула и положила обратно месячный трамвайный билет в целлофане, вынула зеркальце, посмотрела, оскалившись на пломбу в переднем зубе, положила обратно, защелкнула сумку, опустила ее к себе на колени, посмотрела себе на плечо, смахнула пушинку, надела перчатки, повернула голову к окну, – все это необыкновенно быстро, с движением на лице, с миганием, с каким-то внутренним покусыванием и втягиванием щек. Но теперь она сидела неподвижно, сухожилье было натянуто на бледной шее, руки в белых перчатках лежали на зеркальной коже сумки.
Теснина бранденбургских ворот.
За Потсдамской площадью, при приближении к каналу, пожилая скуластая дама (где я ее видел?), с глазастой, дрожащей собачкой под мышкой, рванулась к выходу, шатаясь, борясь с призраками, и Зина посмотрела вверх на нее беглым небесным взглядом.
«Узнал? – спросила она. – Это Лоренц. Кажется, безумно на меня обижена, что я ей не звоню. В общем, совершенно лишняя дама».
«У тебя копоть на скуле, – сказал Федор Константинович. – Осторожно, не размажь».
Опять сумка, платочек, зеркальце.
«Нам скоро вылезать, – проговорила она погодя. – Что?»
«Ничего. Соглашаюсь. Вылезем, где хочешь».
«Здесь», – сказала она еще через две остановки, взяв его за локоть, приподнявшись, сев опять от толчка, поднявшись окончательно, вылавливая, как из воды, сумку.
Огни уже отстоялись; небо совсем обмерло. Проехал грузовик с возвращавшимися после каких-то гражданских оргий, чем-то махавшими, что-то выкрикивавшими молодыми людьми. Посреди бездревесного сквера, состоявшего из большого продолговатого цветника, обведенного дорожкой, цвела армия роз. Открытый загончик ресторана (шесть столиков) против этого сквера был отделен от панели беленым барьером с петуньями поверху.
Рядом жрут кабан с кабанихой, у кельнера черный ноготь окунается в соус, а к золотой каемке моего пивного стакана вчера льнула губа с язвочкой… Туман какой-то грусти обволок Зину – ее щеки, прищуренные глаза, душку на шее, косточку, – и этому как-то способствовал бледный дым ее папиросы. Шаркание прохожих как бы месило сгущавшуюся темноту.
Вдруг, в откровенно ночном небе, очень высоко…
«Смотри, – сказал он. – Какая прелесть!»
По темному бархату медленно скользила брошка с тремя рубинами, – так высоко, что даже грома мотора не было слышно.
Она улыбнулась, приоткрыв губы, глядя вверх.
«Сегодня?» – спросил он, тоже глядя вверх.
Теперь только он вступил в строй чувств, который он себе сулил, когда прежде думал о том, как с ней выскользнет из плена, постепенно утвердившегося за время их встреч, постепенно ставшего привычным, хотя был основан на чем-то искусственном и, в сущности, недостойном того значения, которое оно приобрело: теперь казалось непонятным, почему в любой из этих четырехсот пятидесяти пяти дней они просто не съехали со щеголевской квартиры, чтобы поселиться вдвоем; но вместе с тем он подразумно знал, что эта внешняя помеха была только предлогом, только показным приемом судьбы, наспех поставившей первую попавшуюся под руку загородку, чтобы тем временем заняться важным, сложным делом, внутренней необходимостью которого была как раз задержка развития, зависевшая будто бы от житейской преграды.
Теперь (в этом белом, освещенном загончике, при золотистой близости Зины и при участии теплой вогнутой темноты, сразу за вырезным озарением петуний) он окончательно нашел в мысли о методах судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного «романа», о котором он накануне вскользь сообщал матери. Об этом-то он и заговорил сейчас, так заговорил, словно это было только лучшее, естественнейшее выражение счастья, – которое тут же, побочно, в более общедоступном издании, выражалось такими вещами, как бархатистость воздуха, три липовых изумрудных листа, попавших в фонарный свет, холод пива, лунные вулканы картофельного пюре, смутный говор, шаги, звезда среди развалин туч…
«Вот что я хотел бы сделать, – сказал он. – Нечто похожее на работу судьбы в нашем отношении. Подумай, как она за это принялась три года с лишним тому назад… Первая попытка свести нас: аляповатая, громоздкая! Одна перевозка мебели чего стоила… Тут было что-то такое размашистое, “средств не жалею”, – шутка ли сказать, – перевезти в дом, куда я только что въехал, Лоренцов и всю их обстановку! Идея была грубая: через жену Лоренца познакомить меня с тобой, – а для ускорения был взят Романов, позвавший меня на вечеринку к ним. Но тут-то судьба и дала маху: посредник был взят неудачный, неприятный мне, – и получилось как раз обратное: из-за него я стал избегать знакомства с Лоренцами, – так что все это громоздкое построение пошло к черту, судьба осталась с мебельным фургоном на руках, затраты не окупились».