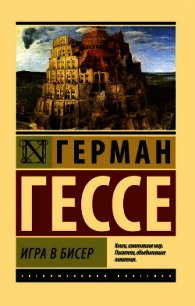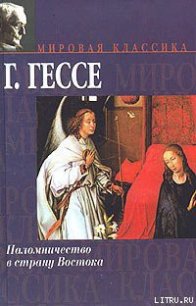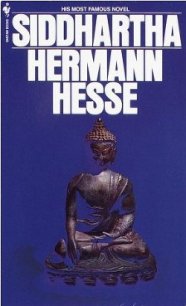Игра в бисер - Гессе Герман (читаем книги онлайн бесплатно TXT) 📗
Кнехт слушал внимательно, и тень печали пробегала порой по его лицу. Затем он продолжал:
– При всем уважении к вашему мнению – а иного я и не ждал, – прошу послушать меня еще немного. Итак, я стал умельцем Игры и долгое время действительно пребывал в убеждении, что служу высочайшему из господ. Во всяком случае, мой друг Дезиньори, наш покровитель в федеральном совете, как-то раз весьма наглядно описал мне, каким заносчивым, чванливым, напыщенным виртуозом Игры, каким выкормышем элиты был я когда-то. Но я еще должен сказать вам, какое значение имели для меня со времен студенчества и «пробуждения» слова «переступить пределы». Запомнились они мне, думаю, при чтении какого-нибудь философа-просветителя и под влиянием мастера Томаса фон дер Траве и с тех пор, как и «пробуждение», были для меня прямо-таки заклинанием, погоняюще-требовательным и обещающе-утешительным. Моя жизнь, виделось мне, должна быть переходом за пределы, продвижением от ступени к ступени, она должна проходить и оставлять позади даль за далью, как исчерпывает, проигрывает, завершает тему за темой, темп за темпом какая-нибудь музыка – не уставая, не засыпая, всегда бодрствуя, всегда исчерпывая себя до конца. В связи с ощущением «пробуждения» я заметил, что такие ступени и дали есть и что последняя пора каждого отрезка жизни несет в себе ноты увядания и умирания, которые затем ведут к выходу в новую даль, к пробуждению, к новому началу. И этим ощущением тоже, ощущением «выхода за пределы», я делюсь с вами как средством, которое, возможно, поможет разобраться в моей жизни. Выбор в пользу игры в бисер был важной ступенью, не менее важной было первое ощутимое подчинение иерархии. Даже занимая должность магистра, я еще ощущал такие переходы со ступени на ступень. Лучшим из того, что принесла мне эта должность, было открытие, что не только музицирование и игра в бисер – отрадные дела, что отрадно также учить и воспитывать. А постепенно я открыл еще, что воспитывать мне тем радостнее, чем моложе и чем меньше испорчены воспитанием мои питомцы. Это тоже, как и многое другое, привело к тому, что меня тянуло к юным и все более юным ученикам, что больше всего мне хотелось быть учителем в какой-нибудь начальной школе, что моя фантазия была порой занята вещами, лежавшими уже за пределами моей службы.
Он передохнул. Предводитель сказал:
– Вы все больше удивляете меня, магистр. Вот вы говорите о своей жизни, а речь идет сплошь о частных, субъективных впечатлениях, личных желаниях, личных эволюциях и решениях! Право, не думал, чтобы касталиец вашего ранга мог видеть себя и свою жизнь так.
В его голосе звучали не то упрек, не то грусть, и Кнехта это огорчило; однако он собрался с мыслями и бодро воскликнул:
– Но мы же, досточтимый, говорим сейчас не о Касталии, не об администрации, не об иерархии, а только обо мне, о психологии человека, причинившего вам, к сожалению, большие неприятности. О том, как я нес свою службу, как исполнял свои обязанности, о достоинствах или недостатках, которыми я как касталиец и магистр обладал, мне говорить не к лицу. Моя служба, как вся внешняя сторона моей жизни, у вас на виду и поддается проверке, придраться вы сможете мало к чему. Речь идет ведь о чем-то совсем другом, о том, чтобы показать вам путь, которым я шел как индивидуум, путь, который вывел меня из Вальдцеля и завтра выведет из Касталии. Послушайте меня еще немного, будьте добры!
Тем, что я знал о существовании какого-то мира за пределами нашей маленькой Провинции, я обязан не своим ученым занятиям, в которых этот мир фигурировал лишь как далекое прошлое, а прежде всего моему однокашнику Дезиньори, который был гостем оттуда, а позднее – своему пребыванию у отцов-бенедиктинцев и патеру Иакову. Собственными глазами я мало что видел из мирской жизни, но благодаря этому человеку я получил представление о том, что называют историей, и возможно, что тем самым уже положил начало той изоляции, в какой оказался по возвращении. Возвратился я из монастыря в страну почти без истории, в провинцию ученых и умельцев Игры, в очень изысканное и очень приятное общество, в котором, однако, я со своим представлением о мире, со своим любопытством и интересом к нему был, казалось, совсем одинок. Многое могло меня утешить; было несколько человек, которых я высоко ценил и сделаться коллегой которых стало для меня смущающей и радостной честью, было множество хорошо воспитанных и высокообразованных людей, было вдоволь работы и довольно много способных и милых учеников. Однако за время учения у отца Иакова я сделал открытие, что я не только касталиец, но и человек, что мир, весь мир имеет ко мне отношение и вправе притязать на мою причастность к его жизни. Из этого открытия следовали потребности, желания, требования, обязательства, потакать которым мне никак нельзя было. Жизнь мира, на взгляд касталийца, была чем-то отсталым и неполноценным, жизнью в беспорядке и грубости, страстях и рассеянье, в ней не было ничего прекрасного и желанного. Но ведь мир с его жизнью был бесконечно больше и богаче, чем представление, которое могли себе составить о нем касталийцы, он был полон становления, полон истории, полон попыток и вечно новых начал, он был, может быть, хаотичен, но он был родиной всех судеб, всех взлетов, всех искусств, всякой человечности, он создал языки, народы, государства, культуры, он создал и нас и нашу Касталию и увидит, как все это умрет, а сам будет существовать и тогда. К этому миру мой учитель Иаков пробудил у меня любовь, которая постоянно росла и искала пищи, а в Касталии пищи для нее не было, здесь ты был вне мира, был сам совершенным, больше не развивающимся, больше не растущим мирком.
Он глубоко вздохнул и умолк. Поскольку предводитель никак не возразил и только выжидательно посмотрел на него, Кнехт задумчиво кивнул ему и продолжал:
– И вот мне пришлось нести два бремени – много лет. Я должен был служить на высоком посту и нести ответственность за него и должен был справляться со своей любовью. Служба, как было ясно мне с самого начала, не должна была страдать от этой любви. Наоборот, думалось мне, любовь эта должна пойти службе на пользу. Если я – а я надеялся, что этого не произойдет, – и буду делать свою работу не совсем так совершенно и безукоризненно, как того можно ждать от магистра, то все равно я буду знать, что в душе я деятельнее и живее, чем иной безупречный коллега, и могу кое-что дать своим ученикам и сотрудникам. Свою задачу я видел в том, чтобы медленно и мягко, не порывая с традицией, расширять и согревать касталийскую жизнь, вливать в нее из мира и из истории новую кровь, и, по счастью, в это же время, чувствуя в точности то же самое, о дружбе и взаимопроникновении Касталии и мира мечтал за пределами Провинции один мирянин: это был Плинио Дезиньори. Слегка поморщившись, мастер Александр сказал:
– Ну да, от влияния этого человека на вас я ничего хорошего и не ждал, как и от вашего нескладного подопечного Тегуляриуса. И это, значит, Дезиньори заставил вас окончательно порвать с нашим укладом?
– Нет, domine, но он, отчасти сам того не зная, помог мне в этом. Он вдохнул немного воздуха в мою духоту, благодаря ему я снова соприкоснулся с внешним миром и лишь потому смог понять и признаться себе самому, что мой здешний путь подходит к концу, что настоящей радости мне моя работа больше не доставляет и что пора покончить с этим мучением. Опять осталась позади какая-то ступень, опять я прошел через какую-то даль, и на сей раз этой далью была Касталия.
– Какие выбираете вы слова! – сказал Александр, качая головой. – Как будто даль Касталии недостаточно велика, чтобы достойно занимать умы многих всю их жизнь! Вы в самом деле думаете, что измерили и преодолели эту даль?
– О нет, – живо воскликнул Кнехт, – никогда я так не думал. Если я говорю, что дошел до рубежа этой дали, то хочу лишь сказать: все, что я мог сделать здесь как индивидуум и на своем посту, сделано. С некоторых пор я нахожусь на рубеже, где моя работа в качестве мастера Игры становится вечным повторением, пустым занятием и формальностью, где я выполняю ее без радости, без вдохновения, иногда даже без веры. Пора было прекратить это.