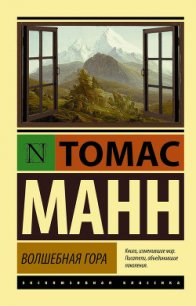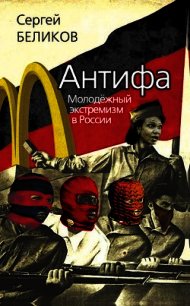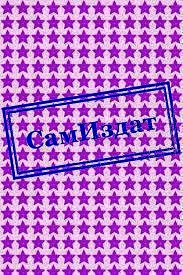Волшебная гора. Часть II - Манн Томас (книги онлайн txt) 📗
Ироническую улыбку мадам Шоша заметил и Везаль; показывая гнилые зубы, он заговорил об этом со своим спутником.
— Вы видели, как она издевалась над вами, — спросил он, — оттого что вам пришлось ехать со мной? Да, да, лежачего всегда бьют. А вам очень неприятно и противно сидеть рядом со мной?
— Возьмите себя в руки, Везаль, и не говорите таких гадостей! — остановил его Ганс Касторп. — Женщины улыбаются по любому случаю, только бы улыбнуться, совершенно незачем всякий раз углубляться в это. И зачем вы всегда так унижаетесь? Как и у каждого, у вас есть свои достоинства и недостатки. Вот вы, например, очень мило играете отрывки из «Сна в летнюю ночь», это может не каждый. Вы бы опять как-нибудь поиграли.
— Да, вот вы утешаете меня, поглядываете сверху вниз и даже не понимаете, какая это наглость так утешать человека. Вы же меня этим еще больше унижаете. Хорошо вам свысока уговаривать да утешать, но ведь если вы сейчас очутились в довольно смешном положении, то все-таки когда-то свое получили и побывали на седьмом небе, господи боже мой, и чувствовали, как ее руки обнимают вас за шею, и все прочее, господи боже мой… у меня, как подумаю об этом, начинает в горле жечь и под ложечкой… И вы, с полным сознанием всего, что было вам даровано судьбою, свысока взираете на меня, нищего, и на мои муки…
— А выражаетесь вы не слишком красиво, Везаль. И даже в высшей степени отвратительно, мне незачем скрывать от вас, — ведь вы же обвиняете меня в наглости, — что ваши слова все-таки мерзки и вы как будто нарочно стараетесь вызвать отвращение и постоянно пресмыкаетесь. Неужели вы и вправду так отчаянно влюблены?
— Ужасно! — отозвался Везаль, покачав головой. — Нельзя описать, как меня терзает моя страсть, мое вожделение к ней, — я хотел бы от этого умереть, а так ведь и не живешь и не умираешь! Когда она уехала, я начал понемногу успокаиваться и постепенно забывать ее. Но с тех пор как она вернулась и я каждый день ее вижу, я иногда дохожу до того, что руки себе кусаю и просто не знаю, куда мне деться, как мне быть. Трудно поверить, что такая одержимость может существовать на свете, но от нее невозможно освободиться, раз такое приключилось — с ним не развяжешься, тогда пришлось бы развязаться с самой жизнью, с которой оно слилось воедино, а этого как раз и не можешь… Умереть? — что дала бы мне смерть? После — пожалуйста. В ее объятиях — с огромной радостью! Но до этого нелепо, ибо жизнь — это желание, а желание — жизнь, и не может она восстать на самое себя, в том-то и состоит проклятая карусель, роковой круг. Я говорю «проклятая» только так, словно это говорит другой, со стороны, сам я этого не сказал бы. На свете существуют всякие пытки, Касторп, и когда человека подвергают пытке, он жаждет избавиться от нее, он жаждет одного — избавиться, это его единственная цель. Но чтобы освободиться от пытки плотского вожделения, есть только один путь, один способ, — это вожделение нужно утолить — иначе не освободишься никакой ценой! Так уж положено, и кто этого не испытывает, тот и не останавливается на таких ощущениях, а уж если человек одержим, как я, он познает все крестные муки и будет проливать горькие слезы. Боже правый, и зачем только на свете так устроено, что плоть нестерпимо вожделеет к другой плоти и лишь потому, что она не его собственная, а принадлежит другой душе — как это странно и вместе с тем насколько плоть все-таки скромна и стыдлива в своем влечении! Можно было бы сказать: если она, кроме этого, больше ничего не жаждет, так, ради бога, пусть себе получает! Ведь чего я хочу, Касторп? Разве я хочу убить ее? Хочу пролить ее кровь? Да я только ласкать ее хочу! Касторп, милый Касторп, простите, что я ною, но могла бы она хоть из милости исполнить мое желание! Ведь в этом есть нечто более возвышенное, я же не скотина, на свой лад я ведь тоже человек! Плотское вожделение стремится то к одной, то к другой, тут нет привязанности, нет избранности, потому-то мы его и называем скотским. Но когда оно обращено к человеческому существу с определенным обликом, тогда уста наши говорят о любви. Ведь я желаю не только ее тело, ее физическую оболочку, если бы в ее внешнем облике даже ничтожная черточка была чуть иной, вероятно, меня и не влекло бы ко всему ее телу, поэтому ясно, что я люблю ее душу и что я люблю ее душой. Ибо любовь к внешнему облику есть любовь душевная.
— Что это с вами, Везаль? Вы вне себя и говорите бог знает как превыспренне…
— В том-то и дело, в том-то и горе, — продолжал бедняга, — что у нее есть душа, что она человек и состоит из души и тела! А душа-то ее знать не желает моей души, значит и тело ее знать не хочет моего тела! О горе, о несчастье! Из-за этого мое желание проклято и обречено стыду, и моему телу суждено вечно извиваться в огненных муках! Почему она и душой и телом знать меня не хочет, Касторп, и почему мое желание рождает в ней отвращение? Разве я не мужчина? Разве даже отталкивающий мужчина не остается им? А я даже очень мужчина, клянусь вам, я превзошел бы всех, кто был у нее до сих пор, если бы только она раскрыла мне свои объятия и все их блаженство… ее руки так прекрасны, ведь они выражают внутреннюю красоту ее души… Со мною, Касторп, она познала бы все сладострастие мира, если бы дело касалось только наших тел, а не наших внутренних обликов, если бы не было ее треклятой души, а душа эта знать меня не хочет, но опять-таки, если не душа, я бы так не жаждал и ее тела, — вот она дьявольская карусель, и я кружусь во всем этом, как белка в колесе!
— Тсс, Везаль! Тише! Ведь кучер понимает. Он нарочно не повертывает головы, но я по спине вижу, что он слушает.
— Понимает и слушает, видите, Касторп! Вот вам опять доказательство того, какое странное, какое особое место занимает в жизни эта сторона. Если бы я говорил об эпохе Возрождения или, ну там о… гидростатике, он бы ничего не понял, ничего не представлял бы себе и не стал бы прислушиваться и интересоваться. Темы непопулярные. Но высший, последний, до жути сокровенный вопрос вместе с тем и самый популярный, каждому он понятен и каждый может издеваться над тем, кто попал в беду, чьи дни полны терзаниями чувственности, а ночи стали целым адом позора! Касторп, милый Касторп, дайте же мне немного поскулить, если бы вы знали, какие ночи я провожу! Каждую ночь я вижу ее во сне, ах, и чего только я не вижу, у меня жжет в глотке и под ложечкой, когда я вспоминаю об этих видениях! И всегда кончается тем, что она бьет меня по щекам, по лицу, а иногда плюет мне в лицо, и когда она плюет, ее душевный облик искажается гримасой отвращения. Тогда я просыпаюсь весь потный от стыда и сладострастия…
— Ну вот, Везаль, а теперь давайте помолчим и решим больше не разговаривать, пока не доедем до бакалеи и кто-нибудь к нам не подсядет. Это мое предложение, и я на нем настаиваю. Не хочу вас оскорблять и допускаю, что вы очень мучитесь, но, знаете, у меня на родине существует сказка об одной особе, которая была наказана тем, что при каждом слове у нее изо рта выскакивала то змея, то жаба [184]. В книжке не упоминалось о том, как она сама относилась к этому, однако я лично всегда считал, что она старалась помалкивать.
— Но ведь у человека есть же потребность, — жалобно возразил Везаль, — есть же потребность, милый Касторп, поговорить и облегчить душу, когда он вот так мучится.
— Не только потребность, это, если хотите, даже его право, Везаль. И все же есть, по моему мнению, права, которыми в известных случаях благоразумнее не пользоваться.
Итак, они по настоянию Ганса Касторпа умолкли, да и экипажи быстро домчали всю компанию до обвитой диким виноградом лавки бакалейщика, где им не пришлось задержаться ни на минуту: Нафта и Сеттембрини уже ожидали на улице, один — в своей поношенной меховой куртке, другой — в желтоватом демисезонном пальто с обильной строчкой, придававшем ему щегольской вид. Пока экипажи заворачивали, они обменивались с приехавшими поклонами и приветствиями, потом тоже сели — Нафта четвертым в первое ландо, рядом с Ферге, а Сеттембрини, который был в отличном настроении и сыпал блестящими остротами, присоединился к Гансу Касторпу и Везалю, причем последний уступил ему свое место в глубине экипажа; Сеттембрини тут же уселся и с изысканной небрежностью принял позу светского франта на Корсо.
184
…сказка об одной особе… при каждом слове у нее изо рта выскакивала то змея, то жаба… — Речь идет о немецкой народной сказке в обработке братьев Гримм «Три маленьких лесовика».