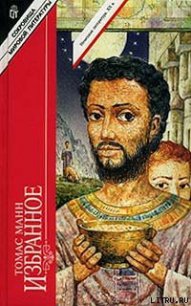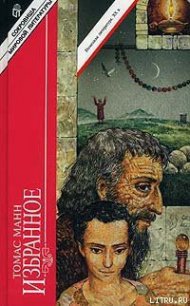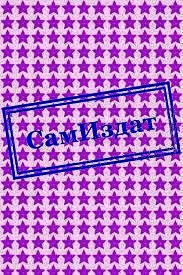Иосиф в Египте - Манн Томас (серия книг txt) 📗
Вот чем можно если не успокоить, то хотя бы вразумить человеколюбца. А разве у нашей Эни не было еще и особой причины видеть в своем возлюбленном бога?.. Конечно, была, поскольку обожествление сводило на нет те унизительные чувства, которые иначе неизбежно сопутствовали бы ее слабости к рабу-чужеземцу и с которыми она так долго боролась. Бог, сошедший на землю в образе раба, узнанный лишь по его неутаимой красоте и по бронзовому золоту его плеч, — она неведомо как напала на эту мысль, и напала к счастью, ибо нашла объясненье и оправданье своей одержимости. А надежда на то, что сон, который открыл ей глаза, сон, где Иосиф остановил ей кровь, надежда на то, что сон этот сбудется, находила пищу в другом образе, в другой картине, на которые она тоже напала неведомо как: в картине совокупления бога со смертной. Возможно, что в эксцентричности этого образа и в обращении к нему была доля страха, внушенного ей сообщениями мужа об избранности и посвященности Иосифа, о венке на его голове.
Второй год
Когда же пошел второй год, в душе Мут-эм-энет что-то смягчилось и поддалось, и она стала выказывать свою любовь Иосифу. Она уже не могла вести себя иначе: слишком сильно она любила его. Одновременно, из-за того же смягчения, она начала поверять свою страсть кое-кому из своих близких, но только не Дуду, ибо, во-первых, при его солнечной изощренности, в этом, как она, в сущности, наверно, знала, давно уже не было никакой нужды, а во-вторых, несмотря на упомянутое смягчение, ее гордость не позволяла ей излить ему душу; напротив, между ними оставалось в силе условие, что дело идет о том, чтобы разгадать волшебство ненавистного чужеземца и «добиться его падения» — оставаясь по-прежнему в ходу, это словосочетание становилось и в ее устах, и в его все менее и менее двусмысленным со дня на день. Призналась она двум женщинам из своих приближенных, внезапно сделав их, каждую особо, своими наперсницами, хотя наперсниц у нее до сих пор никогда не было, и тем самым сильно возвысив обеих — побочную жену Ме-эн-Уазехт, маленькую резвушку с непокрытыми волосами и в прозрачной сорочке, и одну старую смолоедку, по имени Табубу, рабыню службы румян и белил, седовласую и чернокожую, с похожими на бурдюки грудями, — им обеим Эни шепотом открыла свое сердце, намеренно вызвав своим поведением льстивые их расспросы: в показной задумчивости, ни слова не говоря, она вздыхала и улыбалась до тех пор, покуда эти женщины, одна во дворе, у бассейна, а другая возле уборного стола, не стали упрашивать ее, чтобы она доверила им причину своей взволнованности, после чего Мут долго еще жеманилась и ломалась, а потом, задрожав, заплетающимся языком, шепотом исповедалась в своем безумии им, которых тоже охватил трепет.
Хотя они уже, вероятно, и раньше понимали, что к чему, обе принялись всплескивать руками, закрывать ими лицо, целовать ей руки и ноги, приглушенно заворковали и закудахтали, вкладывая в эти звуки торжественное волнение, умиленность и нежную тревогу, как если бы Мут, к примеру, сообщила им, что она беременна. Так и в самом деле восприняли обе женщины эту женскую сенсацию, эту великую новость — что госпожа полюбила. На обеих напала какая-то хлопотливость, они без умолку утешали и поздравляли благословенную, гладили ее тело, словно оно стало сосудом с опасным и драгоценным содержимым, и всячески показывали ей испуганное свое восхищение этой великой переменой, этим поворотом, этим началом счастливой женской поры, поры тайн, сладостного обмана и скрашивающих будни затей. Черная Табубу, сведущая во всяких нечистых искусствах негритянских стран и в заклинании недозволенных и безымянных божеств, хотела тотчас же приступить к ворожбе, чтобы искусственно приманить юношу и повергнуть его прекрасной добычей к ногам госпожи. Но тогда еще дочь князя Маи-Сахме отклонила это с решительным отвращением, в котором сказалась не только ее более высокая, по сравнению с кушитянкой, цивилизованность, но и порядочность ее пусть очень и очень сомнительного чувства… Что же касается наложницы Ме, то она, напротив, не думала ни о каких колдовских средствах, считая их совершенно ненужными, и находила это дело, если отвлечься от его опасности, весьма простым.
— Счастливая, — сказала она, — о чем тут вздыхать? Разве этот красавец не купленный раб дома, хоть он и стоит во главе его, разве он с самого начала не твоя собственность? Если он тебе нравится, тебе достаточно только повести бровью, и он почтет за величайшую честь соединить свои ноги о твоими, а свою голову с твоей, чтобы ты насладилась!
— Ради Сокрытого, Ме, — прошептала Мут, пряча лицо, — не говори так прямо; ты сама не знаешь, что говоришь, а мне это разрывает душу.
Эни не позволяла себе сердиться на это глупое существо, не без зависти зная, что Ме чиста, что она свободна от любви и недуга вины, и считая, что ее чистая совесть дает ей право болтать о ногах и о головах в свое удовольствие, даже если ее, Эни, это невыносимо смущает. Поэтому она продолжала:
— Видно, ты никогда не бывала в таком положении, дитя мое, и тебя никогда не постигала такая беда. Ты, наверно, только и знала, что лакомилась и судачила со своими сестрами по гарему Петепра. Иначе ты бы не говорила, что мне достаточно повести бровью, а понимала, что из-за моей одержимости его рабское и мое господское положение свелись на нет или даже обратились в свою противоположность, так что скорее уж я завишу от его прекрасных бровей, от того, приветливо ли они расправлены или же смущенно и недоверчиво супятся, приводя меня в трепет. Право же, ты ничем не лучше отсталой Табубу, которая предлагает мне пуститься с ней в негритянское колдовство, чтобы юноша достался мне неведомым для себя образом и чтобы его тело пало жертвою ворожбы. Стыдитесь, невежды, своими советами вы вонзаете меч в мое сердце и поворачиваете его внутри раны! Вы говорите так, как будто, кроме тела, у этого юноши нет души и духа, перед лицом которых приказ бровей ничуть не лучше, чем привораживание, ибо и то и другое властно только над телом и способно подчинить мне лишь тело, лишь теплый труп. Если он когда-либо и был моей собственностью и целиком зависел от моей брови, — то благодаря моей одержимости ему дарована полная свобода, глупая Ме, а я лишена своего господского положения и блаженно несу рабское его ярмо, зависимая и в своей радости и в своей муке от свободы его живой души. Вот она, правда, и я немало страдаю от того, что она не на виду, что внешне он, вопреки истине, все еще раб, а я — его повелительница. Ибо когда он называет меня госпожой своей головы и своего сердца, своих рук и своих ног, я не знаю, говорит ли он это как слуга, потому что так принято, или как живая душа. Я надеюсь на последнее, но в то же время готова отчаяться в этом. Слушай меня внимательно! Если бы на свете существовал только его рот, тогда ваши речи о приказе бровей и о ворожбе на худой конец и сгодились бы, потому что рот — это всего только тело. Но есть еще прекрасная ночь его глаз, а в глазах этих — увы, душа и свобода, и я боюсь их свободы еще и по особой причине: ведь это — свобода от недуга, связавшего меня, погибшую, печальными своими узами, и веселая насмешка над ним — не надо мной, нет, а над моим недугом, и от этого мне уничтожающе-стыдно, потому что восхищенье его свободой только усиливает мой недуг и делает мои узы еще печальнее. Понятно ли тебе это, Ме? И мало того, я должна еще бояться гнева его глаз и их презренья, потому что мои чувства к нему означают обман, означают измену царедворцу Петепра, моему и его господину, которому он по праву внушает приятное чувство доверия, — а я хочу, чтобы он унизил своего господина со мной у моего сердца! Вот чем грозят мне его глаза, и теперь ты видишь, что передо мной не только его рот и что он представляет собой не только тело! Ибо тело не входит в те сплетения обстоятельств, которыми обусловлено и оно само, и наше к нему отношенье и которые это отношенье осложняют, отягощая его всяческими помехами и последствиями и делая из него вопрос законности, чести и нравственности, а это подрезает нашему желанию крылья, и оно не взлетает. Ах, Ме, как много думала я об этих вещах и днем и ночью! Да, тело свободно и самостоятельно, но ни с чем не связано, и для любви должны были бы существовать только тела, чтобы они свободно и одиноко парили в пустом пространстве и сплетались в объятьях без помех и последствий, с закрытыми глазами, уста к устам. Это было бы блаженством, хотя я и презираю такое блаженство. Могу ли я желать, чтобы любимый был только самодовлеющим телом, трупом, а не человеком? Нет, этого я не могу желать, ибо я люблю не только его рот, я люблю и его глаза, и глаза даже больше, чем все другое, и поэтому мне противны ваши советы. Табубу и твой, и я с нетерпением их отвергаю.