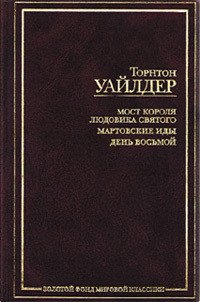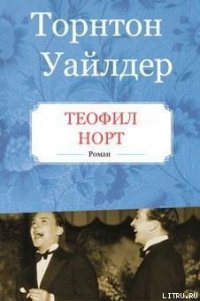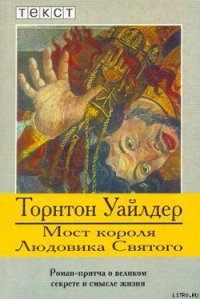День восьмой - Уайлдер Торнтон Найвен (книги серии онлайн .txt) 📗
— О, Роджер! Значит, мы теперь сможем поносить у себя папин портрет и никто его не отнимет!
В Чикаго декабрь выдался мокрый; порывистый ветер с озера гнал над городом снежную крупу пополам с дождем. Только здесь, впервые в этом году, Роджер увидел настоящий снег. Белый, чистый, такой, как бывало в детстве. Ему вспомнилось, как Беатриче, дочь маэстро, задала раз отцу вопрос, часто приходивший в голову ему самому.
— Papa Bene (от Бенедетто), отчего это первый снег всегда так красив… смотришь на него, словно музыку слушаешь.
— Попробую объяснить тебе, Биче: первые месяцы нашей жизни нас окружает все белое — белые пеленки, белая колыбелька, в которой нас укачивают, чтобы мы спокойно уснули. Позже нам говорят, что небо — память о детстве — тоже бело. Нас поднимают и носят на руках; мы словно парим в воздухе. Вот откуда берется представление о летающих ангелах. Первый снег нам напоминает ту единственную пору в нашей жизни, когда мы еще не ведали страха. Нет более унылой картины, чем кладбище под дождем, потому что дождь, он похож на слезы; но то же кладбище, укрытое снегом, манит к себе. Воспоминания о другом мире оживают в нас. Зимой мертвые словно спят в колыбели.
— Si, papa. Grazie, papa Bene [74].
Они миновали гостиницу, потом бакалейную лавку мистера Боствика.
— Теперь здесь мастерская мисс Дубковой. Миссис Лансинг арендовала помещение, и Фелиситэ иногда приходит помогать Ольге Сергеевне. А вот мастерская Порки. Видишь, он ее расширяет. А тут жила миссис Кэвено — не так давно ее увезли в Гошен.
Не дойдя до «Сент-Киттса», Роджер повернул назад.
— Наверно, мама заждалась нас, — сказал он сестрам.
Констанс была уже совсем барышня — почти тринадцать лет как-никак, а по росту и больше дашь, — но от всего испытанного в связи с приездом брата (а в его лице и отца тоже) она за эту короткую прогулку словно бы странным образом возвратилась в детство. То и дело дергала Роджера за рукав, за локоть. Она явно не прочь была, чтобы он посадил ее себе на плечи и понес, как когда-то делал по вечерам отец, возвращаясь с работы.
Роджер остановился и глянул на нее с улыбкой.
— Ну, Конни, ты теперь слишком большая, чтобы тебя носить на плечах.
Она сконфуженно покраснела.
— Ладно, я только буду держать тебя за руку.
За горами горы…
Всю жизнь и друзья и враги говорили о ней: «Что-то в этой Констанс Эшли-Нишимура есть детское», «Это глупо, но какой-то стороной своего существа Констанс так и не повзрослела с годами». Во всех ею руководимых кампаниях она делала ставку на пожилых мужчин, как на отцов или старших братьев; безошибочное чутье определяло ее выбор. Были среди них два вице-короля Индии, был последний хедив, были президенты, премьер-министры («Против произвола землевладельцев», «За избирательное право для женщин», «За равноправие женщин в семье», «За урегулирование проституции» — она предлагала создать нечто вроде профсоюза проституток; «За детские глазные лечебницы» — она первая выдвинула принцип профилактической медицины); были миллионеры (какие суммы ей удавалось собирать для общественных нужд, а у самой часто недоставало денег на оплату счета в гостинице). Именно это детское в ней помогало ей выдержать самые трудные испытания — грубость полицейских, оскорбления и враждебные выпады публики. Ее бесстрашие было бесстрашием не взрослой женщины, а маленькой девочки. Прямота и уверенность в себе достались ей в дар от отца и брата. Самые ценные дары — а подчас и самые гибельные — те, о которых даритель не подозревает; они расточаются на протяжении долгих лет в бесчисленных мелочах повседневной жизни — через взгляды, паузы, шутки, улыбки, молчание, похвалы или упреки. Констанс нашла себе в жизни многих отцов и братьев. Нередко она раздражала их, иногда даже приводила в ярость; но почти не было случая, чтобы кто-то из них ее предал…
И вот они наконец подошли к дому. Роджер долго стоял у ворот, глядя на вывеску: «Вязы». Комнаты со столом». Ему вспомнились письма Софи, первый год, проведенный им и Чикаго, день, когда он узнал, что налоги уплачены сполна. Он крепко пригнал к себе локоть Софи.
Они пошли и дом.
— Мама! Роджер уже здесь.
Беата появилась из двери кухни. С минуту смотрела, не узнавая, на юношу, стоявшего посреди холла. Потом вдруг спохватилась, что на ней кухонный передник — это не входило в программу, — и принялась торопливо снимать его, путаясь в завязках. Чувство скованности, физической неловкости, даже страха покинуло Роджера. Он как будто стал выше ростом. Беата Эшли никогда не была хрупким существом, но сейчас, первый раз в жизни, она показалась сыну ранимой, беспомощной, нуждающейся в нем. Ведь, пока с ними жил отец, ему просто не представлялось никогда случая что-либо для нее сделать. Одета она была по-зимнему — в синее шерстяное платье без малейших претензий на красоту или изящество; но все равно — в его глазах она оставалась самой прекрасной женщиной в мире. Он подошел к ней, обнял и поцеловал — полдюйма, на которые он ее перерос, казались ему по меньшей мере двумя футами. Теперь он будет ее защитой, ее опорой. Он стал взрослым.
— Добро пожаловать, Роджер.
— Ты прекрасно выглядишь, мама.
— Мама, — сказала Констанс, — а миссис Лансинг поцеловала Роджера на вокзале. Весь город видел.
— Твоя комната ждет тебя, — сказала Беата.
— Спасибо, только мне хочется раньше обойти дом.
Гостиная с мебелью, собранной Софи по креслу, по стулу; все потертое, поцарапанное, но начищенное до блеска. Столовая — типичная «пансионская»: стол во всю длину комнаты, два буфета с выстроенными в боевом порядке тарелками, чашками, судочками. Засветив фонарь, они осмотрели курятник и инкубатор, навестили корову Фиалку, заглянули в сарайчик, сколоченный Порки для уток. Зайдя в «Убежище», проверили все зарубки на дверном косяке, которыми отец отмечал ежегодно рост детей: Лили с двух лет в 1886 году и до восемнадцати — в 1902; Роджера с одного года в 1886 и до семнадцати в 1902 и так далее. Обошли все дубки, посаженные отцом в 1888 году; молча подивились тому, как пышно они разрослись. В семье Эшли всех, за одним исключением, привлекало все, что растет, развивается, воплощает людские замыслы.
Беата, как бывало не раз, звала Порки поужинать вместе с ними. Но он никогда не соглашался участвовать в семейных трапезах. Ел он обычно в одиночку, на кухне. Сегодня же его вообще не было дома. За столом разговор шел о разных пустяках. Все будто сговорились не касаться серьезных вопросов, оставив их на тот час после ужина, когда Роджер с матерью усядутся в гостиной вдвоем, и тогда неизбежно встанет вопрос, о котором не принято было говорить в «Вязах», — вопрос о будущем. Станут ли девочки учиться дальше? Начнет ли мать выходить за ворота усадьбы? Появятся ли у них когда-нибудь снова друзья, знакомые? А пока Роджер показывал последние фотографии Лили и ее прелестного малыша. Передавал ее сожаления, что ей не удастся провести это рождество вместе с ними. Но она двадцать восьмого должна ехать в Нью-Йорк, после четырех исполнений «Мессии» — двух в Чикаго и двух в Милуоки. Потом он стал рассказывать о своей работе. Если б не беспрестанные вопросы Конни, разговор скоро затоптался бы на месте. Софи за все время не проронила ни слова. Когда наконец встали из-за стола, девочки направились в кухню.
Роджер спросил:
— Мама, нельзя ли, чтобы посуда полчаса подождала сегодня?
— Конечно, можно, милый. А что ты хочешь?
— Поздней мы с тобой посидим и поговорим в гостиной, но сперва мне хотелось бы прогуляться с Софи — покуда еще не очень темно и холодно. А твоя очередь будет завтра, Конни. По старшинству.
— Разумеется, Роджер. Софи, ты только оденься потеплее.
Они шли, взявшись за руки, что у членов семейства Эшли было не в обычае. Шли не Главной улицей, а дорожкой, когда-то протоптанной для тяги барж бечевой по реке. Рядом, под топким еще ледком, тихо струилась Кангахила.
74
Да, папа. Спасибо, папа Бене (итал.)