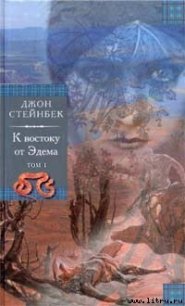К востоку от Эдема - Стейнбек Джон Эрнст (книги бесплатно без txt) 📗
Они стали работать. У женщин мышцы тоже крепнут, как и у мужчин, — а мать была и духом крепка. Она исполняла, что требовалось, долбила киркой и копала лопатой, н мучилась, должно быть, как в аду. Но всего горше, неотвязней и ужасней была для обоих мысль, что рожать ей будет негде.
— Неужели они были настолько темные? Пошли бы к начальству, сказали, что она женщина, что беременна. О ней бы как-то позаботились.
— Вот видите. Придется пояснить и это, — сказал Ли. — Потому и получается длинно. Не были они темные. Но этот людской скот был привезен для одной только цели — для работы. Чтобы потом всех оставшихся в живых отправить обратно в Китай. Сюда везли только самцов. Самок не брали. Америка не желала, чтобы они тут плодились. Семья — мужчина, женщина и ребенок — норовит угнездиться, врыться в землю, пустить корни. Поди ее потом выкорчуй. Толпа же мужчин, беспокойных, терзаемых похотью, полубольных от тоски по женщине, такая толпа корней не пускает и готова ехать куда угодно, а тем более домой. И моя мать была единственная женщина в этой полубезумной, полудикой орде мужчин. Чем дольше работали и жили они здесь, тем беспокойней становились. Для хозяев они были не люди, а зверье, которое становится опасным, чуть только дашь послабление. Теперь вы поймете, почему мать не шла к хозяевам за помощью. Да ее бы мигом убрали из лагеря и — кто знает? — возможно, пристрелили бы и закопали, как сапную лошадь. Пятнадцать человек были застрелены за строптивость.
Нет уж, родители мои помалкивали — бедный наш народ от века приучен к немой покорности. Наверное, возможен и другой образ жизни — без кнута, без петли и без пули, — но никак не привьется он что-то. Напрасно я этот рассказ начал…
— Почему ж напрасно? — возразил Адам.
— Помню, с каким лицом рассказывал отец мне. Все старое горе воскресало в душе, вся боль и рана. Отец среди рассказа примолкал и, взяв себя в руки, говорил дальше сурово, жесткими, резкими словами, точно стегал себя ими.
Они с матерью держались бок о бок под тем предлогом, что они, мол, дядя и племянник. Так шли месяцы, и, к счастью, живот у матери не слишком выдавался, и она кое-как перемогалась. Отец опасливо и понемногу, но помогал ей в работе — племянник, мол, юн еще, кости хрупкие. Как дальше быть, что дальше делать, они не знали.
И вот отец надумал — бежать обоим в высокогорье, на один из альпийских лугов, и там у озерца сделать шалаш для матери, а когда пройдут благополучно роды, самому вернуться и принять кару. Закабалиться еще на пять лет — в уплату за бежавшего племянника. Горестен был этот его план, но другого не было, а тут, казалось, брезжила надежда. Надо было только успеть вовремя — и скопить еду.
— Мои родители… — На этом слове Ли приостановился, и так любо оно было его сердцу, что, улыбнувшись, он повторил и усилил его: — Мои дорогие родители стали готовиться. Оставлять часть дневной нормы риса, пряча под тюфяк. Отец нашел бечевку и сделал из куска проволоки крючок — в горных озерах водилась форель. Перестал курить, чтобы сберечь выдаваемые спички. А мать подбирала любую тряпицу, выдергивала нитку с краю, сшивала эти лоскутья-лохмотья, действуя щепочкой вместо иглы, — готовила мне пеленки. Как бы я рад был знать ее и помнить.
— И я бы тоже, — сказал Адам. — Ты Сэму Гамильтону об этом рассказывал?
— Нет. А жаль. Он любил то, что славословит душу человека. Свидетельства мощи ее были для него как праздник, как победа.
— Хоть бы удалось им это бегство… — проговорил Адам.
— Я вас понимаю. На этом месте я говорил отцу: «Беги же на озеро, доставь туда маму, пусть один хоть раз не будет неудачи. Хотя бы один раз скажи мне, что добрались до озера, сделали шалаш из еловых лап». И отец отвечал очень по-китайски: «В правде больше красоты, пусть это и грозная красота. Рассказчики, сидящие у городских ворот, искажают жизнь, подслащивают ее для ленивых, для глупых, для слабых, — и эта подсластка лишь умножает в них немощь и ничему не научает, ничего не излечивает и не возвышает дух человека».
— Досказывай же, — сказал Адам сердито.
Ли встал, подошел к окну и кончил свой рассказ, глядя на звезды, что мерцали и мигали на мартовском ветру.
— Валуном, скатившимся с горы, отцу переломило ногу. Ему наложили лубки, дали работу по силам калеке — выпрямлять на камне молотком погнувшиеся гвозди. И тут, от тревоги за отца или же от тяжести труда — не все ль равно — у матери начались преждевременные роды. И весть о женщине ударила в полубезумных мужчин и обезумила полностью. Телесные лишения подхлестнули плотскую нужду; притеснения — одно горше другого разожгли в оголодалых людях гигантский, бредовый пожар преступления.
Отец услышал вопль: «Женщина!»— и понял. Он побежал, лубки слетели, со своей сломанной ногой он пополз вверх по скальному скату — к полотну будущей дороги.
Когда дополз, небо уже чернело скорбью, и люди расходились, чтобы затаиться и забыть, что они способны на такое. Отец нашел ее на куче сланца. У нее и глаз уже не осталось зрячих, но рот шевелился еще, и она сказала ему, что делать. Ногтями своими добыл меня отец из растерзанного тела матери. Под вечер она умерла там на куче.
Адам слушал, тяжело дыша. Ли продолжал мерно и певуче:
— И прежде чем возненавидеть их, знайте вот что. Всегда кончал заверением отец, что никогда еще так не заботились о ребенке, как заботились обо мне. Весь лагерь стал мне матерью. В этом есть красота — грозная красота. А теперь спокойной вам ночи. Больше уж не могу говорить.
Адам выдвигал ящики, искал на полках, открывал коробки — и, перерыв весь дом, вынужден был позвать Ли.
— Где у меня тут перо и чернила? — спросил он.
— У вас их нет, — сказал Ли. — Вы уже много лет ни слова не писали. Хотите, я принесу свои.
Он пошел к себе в комнату, принес широкую бутылочку чернил, ручку с пером «рондо», стопку почтовой бумаги, конверт, положил все это на стол.
— Как ты догадался, что письмо буду писать? — спросил Адам.
— Вы хотите писать брату, так ведь?
— Так.
— Трудное это будет дело — после такого долгого молчания.
И действительно. Адам грыз ручку, чесал ею в затылке, морщился, хмурился. Напишет несколько фраз — и скомкает листок, и начинает заново.
— Ли, если я съезжу на восток, ты останешься с детьми на это время?
— Ехать проще, чем писать, — сказал Ли. — Конечно, останусь.
— Нет. Я напишу.
— Вы пригласите брата приехать.
— А это мысль. Как я сам не додумался… — Вот и будет повод для письма, исчезнет неловкость. После этого письмо написалось довольно легко. Адам перечел, почеркал немного, переписал начисто. Еще раз медленно прочел, вложил в конверт.
«Дорогой брат Карл, — начиналось письмо. — Эта весточка тебя удивит после стольких лет. Много раз я хотел писать, да все откладывал — сам знаешь, как оно бывает.
Как ты там у себя? Надеюсь, здоров? У тебя, может, пятеро, а то уже и десятеро деток. Xa-xa! У меня двое сыновей, двойняшки. А мать не с нами. Сельская жизнь оказалась не по ней. Живет в городе неподалеку, вижусь с ней иногда.
У меня отличное ранчо, но, к моему стыду, я его запустил. Теперь, может, займусь. Намерения-то у меня всегда хорошие. Но я похварывал эти годы. Теперь выздоровел.
Как тебе живется-можется? Хотелось бы повидаться. Приезжай ко мне в гости. Край здешний хорош. Может, даже приглядишь себе тут место, поселишься. Холодных зим у нас не бывает. А это важно для нашего брата, старичья. Ха-ха!
Подумай-ка об этом, напиши мне, Карл. Поездка тебя развлечет. Хочется повидаться с тобой. Расскажу много такого, о чем в письме не напишешь.
Откликнись, Карл, сообщи, что нового на родине. Должно быть, немало всякого произошло. Стареешь, и то один приятель умирает, то другой. Так уж, видно, мир устроен. Не мешкай же, напиши, приедешь ли. Твой брат Адам «.
Он посидел с письмом в руке, видя мысленно перед собой темное лицо брата, шрам на лбу. В карих глазах недобрый ярый блеск — и вот дернулись губы, оскалился слепо крушащий зверь… Адам тряхнул головой, прогоняя видение. Попытался вспомнить Карла улыбающимся, вспомнить лоб без шрама — но не смог четко представить ни то, ни другое. Схватив перо, приписал: