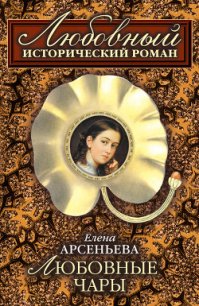Тридцатая любовь Марины - Сорокин Владимир Георгиевич (книги без регистрации полные версии txt) 📗
Марина протянула свой, розовощекая баба с лисьим носиком взяла, подала ей коробку, перетянутую шпагатом и положила сверху листок с перечнем.
Марина кивнула, снимая заказ со стойки, но пальцы Леонида Петровича оттерли, отняли и понесли.
— Настоящий джентльмен, — благодарно хмыкнула Марина.
— Ага… Тебе в буфете не нужно ничего? — Да куда еще…
На этот раз лестница встретила медленно поднимающимися одиночками и третьего поцелуя не последовало…
На улице Марина открыла сумочку: — Леня, сколько я должна?
— Закрой, закрой… — пробормотал он, — Пошли провожу тебя.
— Нет, ну серьезно, сколько?
— Нисколько.
— Лень. это нехорошо.
— Хорошо, хорошо… Пошли…
Они вышли из переулка и двинулись вниз к метро мимо длинных зданий ЦК и МГК.
Спускаться отсюда было гораздо легче, чем подниматься.
Леонид Петрович закурил, не предложив Марине:
— Как у тебя дела?
— Какие?
— Всякие…
— По-всякому. А вообще хорошо. Вот заказ цековский получила…
— А со временем как? — Туговато. — А в субботу? —Да я не знаю, Лень…
— Поехали ко мне на дачу? Там так хорошо щас. Пусто…
— А твои где?
— Дома…
— Посмотрим…
Он замолчал, часто отпуская дым свежему весеннему ветерку. Надвинутая на глаза шапка придавала его лицу угрюмый вид.
— Как на работе? — равнодушно спросила Марина.
— Все в норме…
— Трясет вас Юрий Владимирович?
— Слегка…
— Ничего себе слегка… Вон перетасовки какие. У тебя ж начальника сняли…
— Ну и что. Все равно работаем по-старому…
— А тебя почему не снимают?
— Не знаю. Заслужил, наверно…
«Не пизди, Ленечка», — подумала Марина, с улыбкой поглядывая на него,
— «Не ты заслужил, а твой брат, генерал-майор КГБ, который так глупо и безнадежно клеился ко мне в вашем сочинском санатории…»
Она вспомнила полного, косноязычного Сергея Петровича, спускавшегося в столовую в неизменном шерстяном тренировочном костюме, и засмеялась.
— Что? — устало посмотрел на нее Леонид Петрович.
— Ничего, ничего…
Он бросил окурок:
— Ну так я позвоню тебе утром, а?
— Звони…
Марина взяла у него коробку:
— Спасибо тебе…
—Да не за что, Мариш. До субботы.
Его пальцы украдкой пожали ее запястье.
Марина кивнула и стала спускаться в подземный переход по залитым жидкой грязью ступеням.
Метро было переполнено. В поезде ей уступил место какой-то подвыпивший мужчина, по виду стопроцентный слесарь.
Марина села и, не вслушиваясь в его сбивчивые портвейновые речи сверху, вытянула из-под бечевки опись заказа:
март 1983
Колбаса сырокопченая 1 4-24 4-24
Кета с/посола 0,5 7-81 3-91
Икра кетовая 1/140 1 4-20 4-20
Икра зернистая 1/56 1 3-00 3-00
Крабы 1/420 1 2-40 2-40
Печень трески 1 /320 1 0-95 0-95
Огурцы консерв. 1/510 2 0-44 0-88
Говядина тушеная 1/250 2 0-68 1-36
Судак в томатном соусе 1/350 1 0-58 0-58
Ветчина 1/454 1 1-90 1-90
Язык в желе 1/350 1 1-23 1-23
Коробка
0-32
Конверты
0-03
Итого 25-00
«Четвертак подарил мне», — подумала Марина, 6пряча листок в карман, — «А заказики ничего у них. Ребята будут рады…»
Слесарь что-то бормотал наверху, уцепившиськостлявой рукой за поручень.
Марина посмотрела на него.
Темно-синее демисезонное пальто с огромными черными пуговицами, засаленными лацканами и обертыми полами нелепо топорщилось на его худощаво скособочившейся фигуре. Свободная рука сжимала сетку с завернутой в «вечерку» сменой белья, широкие коричневые брюки вглухую наползали на грязные ботинки. На голове косо сидела серая в крапинку кепка, пестрый шарф торчал под небритой челюстью.
От слесаря пахло винным перегаром, табаком и нищетой, той самой — обыденной и привычной, бодрой и убогой, в существование которой так упорно не хотел верить улыбающийся Марине слесарь.
Подняв руку с болтающейся сеткой, он отдал честь, приложил к свежестриженному виску два свободных пальца с грязными толстыми ногтями:
— Ваше… это… очень рад… рад… вот так…
Сетка болталась у его груди…
Больше всего на свете Марина ненавидела Советскую власть.
Она ненавидела государство, пропитанное кровью и ложью, расползающееся багровой раковой опухолью на нежно-голубом теле Земли.
Насилие всегда отзывалось болью в сердце Марины.
Еще в детстве, читая книжки про средневековых героев, гибнущих на кострах, она обливалась слезами, бессильно сжимая кулачки. Тогда, казалось, что и ее волосы трещат вместе с пшеничными прядями Жанны д'Арк, руки хрустят, зажатые палачами Остапа в страшные тиски, а ноги терзают чудовищные «испанские сапоги», предназначенные для Томмазо Кампанеллы.
Она ненавидела инквизицию, ненавидела Куклуксклан. ненавидела генерала Галифе.
В семнадцать лет Марина столкнулась с хиппи. Они открыли ей глаза на окружающий мир, стали давать книжки, от которых шло что-то новое, истинное и светлое, за что и умереть не жаль.
Дважды она попадала в милицию, и эти люди в грязно-голубых рубашках, с тупыми самодовольными мордами навсегда перешли в стан ее врагов. Это они стреляли в Линкольна, жгли Коперника, вешали Пестеля.
Один раз Солнце взял ее «на чтение».
Читал Войнович на квартире одного пианиста. Так Марина познакомилась с диссидентами.
За месяц ее мировоззрение поменялось до неузнаваемости.
Она узнала что такое Сталин. Она впервые оглянулась и с ужасом разглядела мир. в котором жила, живет и будет жить.
«Господи», — думала она, — «Да это место на Земле просто отдано дьяволу, как Иов!»
А вокруг громоздились убогие дома, убогие витрины с равнодушием предлагали убогие вещи, по убогим улицам ездили убогие машины. И под всем под этим, под высотными сталинскими зданиями, под кукольным Кремлем, под современными билдингами лежали спрессованные кости миллионов замученных, убиенных страшной машиной ГУЛАГа…
Марина плакала, молилась исступленно, но страшная ж:изнь текла своим убогим размеренным чередом.
Здесь принципиально ничего не менялось, реальное время, казалось, давно окостенело или было просто отменено декретом, а стрелки Спасской башни крутились просто так, как пустая заводная игрушка.
Но страшнее всего были сами люди, — изжеванные, измочаленные ежедневным злом, нищетой, беготней. Они, как и блочные дома, постепенно становились в глазах Марины одинаковыми.
Отправляясь утром на работу в набитом, надсадно пыхтящем автобусе, она всматривалась в лица молчащих, не совсем проснувшихся людей и не находила среди них человека, способного удивить судьбой, лицом, поведением. Все они были знакомы и узнаваемы, как гнутая ручка двери или раздробленные плитки на полу казенного туалета.
Не успевали они открывать свои рты, как Марина уже знала, что будет сказано и как. Речь их была ужасной, — косноязычие, мат, канцеляризмы, блатной жаргон свились в ней в тугой копошащийся клубок:
— Девушк. а как вас звать?
— Я извиняюсь конешно, вы не в балете работаете?
— Вы не меня ждете?
— Натурально, у меня щас свободный график. Сходим в киношку?
— У вас глаза необычайной красоты. Красота глаз на высоком уровне.
— А я, между прочим, тут как бы неподалеку живу…
Она морщилась, вспоминая тысячи подобных приставаний в метро, в автобусе, на улице.
Ей было жалко их, жалко себя. Почему она родилась в это время? За что?!
Но это была греховная мысль, и Марина гнала ее, понимая, что кому-то надо жить и в это время. Жить: верить, любить, надеяться.
Она верила, любила. И надеялась.
Надежда эта давно уже воплотилась в сокровенную грезу, предельная кинематографичность которой заставляла Марину в момент погружения забывать окружающий мир.
Она видела Внуковский аэродром, заполненный морем пьяных от свободы и счастья людей: заокеанский лайнер приземляется вдали, с ревом бежит по бетонной полосе, выруливает, прорастая сквозь марево утреннего тумана мощными очертаниями. Он еще не успевает остановиться, а людское море уже течет к нему, снося все преграды.